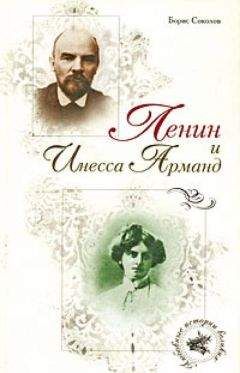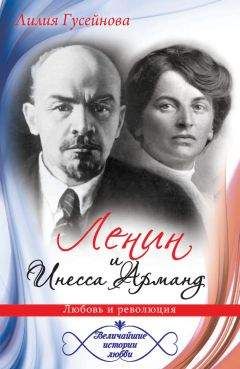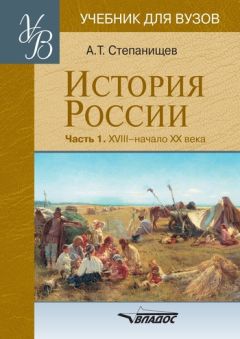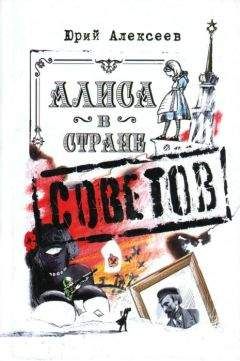Давид Арманд - Путь теософа в стране Советов: воспоминания
Всей семьёй мы ходили на «тарабару». Это волшебное название было дано столь же волшебному явлению природы. В скале, нависающей над долиной, водой был промыт тоннель. Если посмотреть сверху, то сквозь тарабару были видны луга и домики с красными крышами и пасшиеся маленькие коровки. Сверху дырка была заделана решёткой, чтобы ребята туда не ныряли. Я верил, что дыра идёт сквозь всю Землю и что коровки пасутся уже в Австралии. Когда меня разубеждали и говорили, что отверстие открывается всего лишь в долину Шамони, я спорил и соглашался на уступки неохотно: «Ну, может быть, не через центр Земли, а немного вбок». Я ещё не умел сформулировать, что тоннель проведён по хорде.
Спорил я также и насчёт Наполеона. Взрослые находили, что на гребне Монблана, возвышавшемся над местечком, ясно различим профиль Наполеона, лежащего лицом вверх. Я решительно ничего такого среди снежных громад не видел и доказывал, что не может он здесь лежать, раз он умер на острове Святой Елены. Вот рекламу «Chocolat Gala-Peter», написанную буквами с трёхэтажный дом, на одном из утёсов Монблана я ясно видел. Она вызывала у меня слюнотечение при воспоминании о замечательном сливочном шоколаде в виде пятачков, упакованных в столбики, которые так и отколупывались один за другим. Невозможно было остановиться, пока не дойдёшь до дна.
Новый дядя Миша оказался высоким блондином с вихрами, в пенсне и с белокурой бородкой. Отношения у меня с ним не сложились, потому что он был «штрафник». У него была копилка — зелёный огурец. Туда должны были опускать штрафы все люди, заговорившие за столом о политике или вообще на «скучные темы». Я панически боялся этого огурца и с ужасом глядел на то, как кто-нибудь из родных, пойманных на месте преступления, опускал в огурец 10–20 сантимов. И хотя я видел не раз, как в конце недели дядя Миша вынимал недельную добычу и покупал для всех бутылку вина и торт, всё же взимание штрафов казалось ужасным насилием над личностью, чем-то вроде гражданской казни. А тут ещё на стенке появился приказ, что рёв за обедом по поводу не так нарезанной котлеты приравнивается к «скучным разговорам». А так как у меня не было за душой ни сантима, будут записывать за мной долг и в один прекрасный день снимут с меня кепочку, штанишки и так далее, продадут на базаре и деньги положат в огурец. Представляете, какая может быть жизнь в ожидании казни? Немудрено, что я не верил маме и папе, уверявшим, что дядя Миша хороший.
Посреди лета в гости к нам приехала «баба Ту» (Тумповская) с младшими мамиными сёстрами и «баба и деда Пу» (Пушкинские) с тремя сёстрами отца. Старые бабушки и молодые тётки наперебой баловали меня, отчего я стал совершенно несносным и рисковал остаться в чём мать родила перед лицом зелёного огурца, если бы дядя Миша собрался выполнить свою угрозу. Только с бабой Ту у меня сложились натянутые отношения. Когда огорчённая мама меня спрашивала:
— Ну, отчего, отчего ты не любишь бабушку? — я мог привести только один сильный аргумент:
— Она слишком крепко целует, а у самой губы мокрые!
Из Морнэ мы ездили всей семьёй с бабой и дедой Пу на ледник, который славился ледяными гротами. Какой-то предприимчивый капиталист купил язык ледника, провёл в него электрическое освещение (ледник, очевидно, был мёртвый), где надо, вырубил ступеньки. На плече грота построил небольшую гостиницу и ресторан.
Народ повалил смотреть на чудо природы и охотно платил за это по полтиннику. Тепло одетые и предваряемые чичероне, мы гуськом вошли в узкое отверстие грота. Впрочем, он только назывался «гротом», а на самом деле был бесконечным лабиринтом пещер, промытых во льду стекавшими с поверхности ледниковыми водами. Большей частью подлёдные русла позволяли выпрямиться взрослому человеку, но временами приходилось идти согнувшись. По дну русла в канавках журчали весёлые ручьи. Освещение было хитро проведено в толще льда, так что сами стены светились мягким светом. Временами мы выходили в небольшие залы, там освещение было разноцветным: то синим, то красным, то зелёным; цветные лучи дробились и отражались в сотнях сосулек. Сказочное зрелище! Местами во льду можно было видеть кусочки голубого неба. Путешествие длилось около часа.
В Морнэ я переименовал своих родителей. Отец заявил мне:
— Если я Кук, так, значит, ты Кукиш!
Хотя я не очень ясно представлял себе, с чем его едят, но почувствовал что-то обидное и стал называть его папа-Ука. Маму я называл в то время — мама-Гиля.
Наступила осень, родные уехали. И мы направились зимовать в Рим. В дороге самое забавное было — множество тоннелей. Через Симплонский тоннель проезжали целых полчаса. Мне было страшно и интересно, ведь мы ехали «почти сквозь Монблан». Всё-таки я всё время держал маму за руку. Меры по технике безопасности необходимы, когда Монблан каждую минуту может обрушиться на голову.
Рим, — я понимал, что это столица мира, что туда ведут все дороги, и относился к нему с должным почтением. Что на меня произвело неизгладимое впечатление, это — развалины Колизея. Так здорово было прыгать с широких ступеней амфитеатра, гонять мяч по громадной арене… Пока родители сидели на каменных скамьях и читали свои бедекеры, я произвёл глубокую разведку и залез на шею какой-то каменной «древнегрецкой даме». Там меня и застал сторож в фуражке с околышем. Он ругался по-итальянски, потом стал тыкать в меня палкой. Пришлось слезть и с горькими слезами под конвоем отправиться к папе и маме. Объяснение с их стороны было бурным и закончилось тем, что папа вынул бумажник и дал сторожу несколько лир в обмен на жалкую квитанцию. Опять штраф!
— Вот, до чего ты довёл! — сказала мама. Я знал, что у родителей не хватает денег и что нас того и гляди выселят из скромного номера гостиницы, и потому снова закатился на этот раз уже от стыда. Но кто же мог подумать, что нельзя посидеть немножко на голове у статуи! Ведь здесь их десятки!
Я стал заядлым археологом. Я бредил камнями и, поднимая на горе Тиверия или на Галатинском холме какой-нибудь булыжник, тащил его к родителям с восторженным криком:
— Поглядите, какой старинный!
Меня без конца водили по церквям и музеям. Там я глядел на то, что было ко мне ближе всего: на землю. Оно и стоило: полы были выложены мозаикой, к которой я чувствовал какую-то особую нежность. Особенно, когда она изображала зверей и птиц. В Ватиканском музее я был столько раз, что дома даже начертил его план и, по семейному преданию, совершенно верно. Это была моя первая географическая работа.
Я также сделал существенный вклад в историю. Я объяснил, почему римляне говорят по-латински. Очень просто: потому что они жили на Полатинском холме! И как это учёные до сих пор не догадывались?