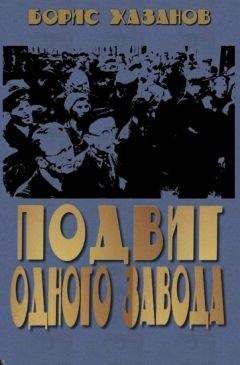Жан-Пьер Неродо - Август
Между тем не исключено, что стремление стать самим собой подразумевало, в числе прочего, исполнение предсказаний гороскопа. Любопытно, что у Августа был не один, а сразу два гороскопа! Так, у Светония (XCIV) читаем:
«Август настолько верил в свою судьбу, что даже обнародовал свой гороскоп и отчеканил серебряную монету со знаком созвездия Козерога, под которым он был рожден».
Странное заявление относительно человека, рожденного в сентябре, то есть под знаком Весов! Но вот что пишет Германик:
«О Август! Силою того же небесного тела, что дало тебе рождение, Козерог вознес к небесам твою божественную душу»[10].
С другой стороны, Вергилий предрекал, что Август, обратившись после смерти в звезду, займет свое место между Скорпионом и Девой, то есть именно там, где положено находиться Весам[11]. Того же мнения придерживается и Манилий, повествующий о судьбе ребенка, явившегося на свет под знаком Весов:
«Счастливо дитя, рожденное под коромыслом Весов — знаком совершенного равновесия! Оно станет полновластным судией, распоряжающимся жизнью и смертью; оно подчинит себе народы и даст им закон. Пред ним падут города и царства. Все будет делаться, как оно того пожелает, и, завершив свой земной путь, оно обретет могущество в небесах»[12].
Совершенно очевидно, что в этих строках говорится о судьбе Августа. Но какой же знак — Весов или Козерога — Август считал своим? В спорах по этому вопросу исследователи извели море чернил. Самое простое решение, как нам кажется, заключается в том, что он сам колебался между знаком, господствовавшим в момент его рождения, то есть Весами, и Козерогом, определившим его зачатие. Преимущество Козерога состояло в том, что это созвездие считалось знаком Ромула и самого Рима, зато Весы олицетворяли царство справедливости. Август не хотел отказываться ни от одного из этих символов, заставив потомков ломать себе голову над еще одной его загадкой, из-за которой Светонию пришлось «переместить» знак Козерога на сентябрь.
Возможно также, в этом проявилось его желание внести сознательную путаницу в природу носителя особой судьбы, рожденного под двумя знаками. Так кем же он был — «владыкой» (dominus), «царем» (rex, греческим «басилевсом»), чье появление возвестили предсказания? Или спасителем отечества, полководцем, удостоенным благословения богов? Или просто человеком, который благодаря своим исключительным добродетелям занял место Первого среди людей, то есть принцепсом[13]? На самом деле он выступал во всех этих ипостасях, хотя далеко не в одно и то же время и отнюдь не в одном и том же месте.
Постоянство принцепса?
Справедливости ради следует признать, что повесть о жизни Августа несет на себе отпечаток той резкой перемены, которая произошла в образе его действий. Первая часть его биографии похожа на приключенческий роман — с более или менее дальними походами, безжалостными схватками, опасностями и кровавыми преступлениями, разыгрывающимися под аккомпанемент воплей, криков и стонов. Но вот он добился поставленной цели — и рассказ о нем превращается в семейную хронику с ее приглушенной атмосферой, с описанием сцен домашней жизни, в которой тоже порой разыгрываются жестокие баталии, но только соперники предпочитают драться на рапирах с предохранительным наконечником.
С той самой поры, когда Август остановил окончательный выбор на последней из своих печатей, он демонстрировал поразительное постоянство и в действиях, предпринимаемых в качестве принцепса, и в образе, который старался внушить окружающим. Ни разу не изменил он своему упорному стремлению осуществить исторические преобразования, в которых нуждалась империя, а если иногда и позволял себе кое-какие отступления, то продиктованы они были не капризом или трусостью, но желанием соблюсти верность генеральной линии. Порой то, что на поверхностный взгляд казалось отступлением, на самом деле скрывало глубочайшую приверженность раз и навсегда избранному курсу.
Он даже внешне не менялся, вернее, почти не менялся. Так, мы прекрасно знаем, как выглядел Людовик XIV в старости, не говоря уже о Бонапарте, который, став Наполеоном, кажется, и вовсе обрел другое лицо. Но вот облик Августа, запечатленный на его портретах, хоть и делался с годами чуть более жестким, но все равно оставался молодым и прекрасным. Даже умирая, он попытался стереть со своего увядшего лица разрушительные следы, наложенные старостью, словно мечтал вновь обрести тот безупречный профиль, что когда-то увековечил Диоскурид. Август хотел в последний раз стать таким, каким благодаря бесчисленным портретам его знала вся империя от Рима до глухих провинций — навеки застывшим в величественной красе зрелости. Политической зрелости, символизировавшей возраст империи, которой, если судить по облику ее основателя, никакая дряхлость просто не могла грозить.
В попытке Августа и на смертном одре вернуть красоту своему лицу, привлекательности которого до последних дней не одолели ни годы, ни невзгоды, видны и его величие, и его пафос. «Лицо его было спокойным и ясным, говорил ли он или молчал: один из галльских вождей даже признавался среди своих, что именно это поколебало его и остановило, когда он собирался при переходе через Альпы, приблизившись под предлогом разговора, столкнуть Августа в пропасть. Глаза у него были светлые и блестящие; он любил, чтобы в них чудилась некая божественная сила, и бывал доволен, когда под его пристальным взглядом собеседник опускал глаза, словно от сияния солнца. Впрочем, к старости он стал хуже видеть левым глазом. Зубы у него были редкие, мелкие, неровные, волосы — рыжеватые и чуть вьющиеся, брови — сросшиеся, уши — небольшие, нос — с горбинкой и заостренный, цвет кожи — между смуглым и белым. Роста он был невысокого — впрочем, вольноотпущенник Юлий Мараф, который вел его записки, сообщает, что в нем было пять футов и три четверти, — но это скрывалось соразмерным и стройным сложением и было заметно лишь рядом с более рослыми людьми» (Светоний, LXXIX).
Если Юлий Мараф говорит правду, значит, рост Августа достигал 1 м 70 см, что для той эпохи было даже выше среднего. Вот почему в словах Светония проскальзывает некоторое удивление, которое может быть объяснимо его осведомленностью о том, что Август, сожалевший, что природа не наградила его исключительным ростом, носил обувь на высокой подошве.
Впрочем, если судить по изваянию, запечатлевшему Августа босым, которое Ливия велела воздвигнуть на вилле Прима Порта, он вовсе не был низкорослым. Это посмертная статуя, но описанная Светонием красота телесной оболочки оригинала предстает здесь во всем своем неувядаемом совершенстве. Тяжесть корпуса приходится на правую ногу, тогда как левая, в манере статуй Поликтета, касается земли лишь кончиками пальцев, что производит впечатление динамики и устойчивости. Лицо вылеплено согласно канонам греческой классической скульптуры и состоит из трех равновеликих частей. Небольшими уступками индивидуализации, вызванными необходимостью портретного сходства, выглядят лишь спускающиеся до середины лба пряди волос да, пожалуй, слишком выступающий нос. Разумеется, скульптура не способна передать особого блеска глаз, который, возможно, служил умелым средством маскировки природного недостатка. В самом деле, если верить Плинию Старшему, в сине-зеленых глазах Августа с непропорционально большими белками было что-то лошадиное, поэтому он очень не любил бросаемых на него слишком пристальных взглядов[14].