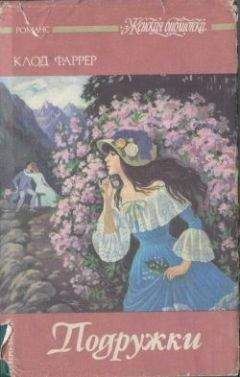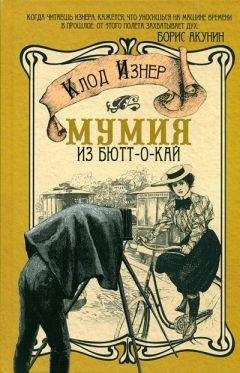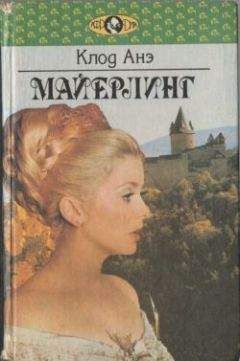Клод Лелуш - Баловень судьбы
В Шамбери меня ждали бригада технических работников — Главный оператор, звукооператор, технический консультант и огромная 35-миллиметровая камера. Такое «чудовище» я еще ни разу не держал в руках. Мне дали сценарий в форме диалогов — плод совместных усилий целой команды офицеров. Я добросовестно целую ночь пытался проникнуться этим текстом. Но на следующее утро мне представили самого плохого актера на свете. Это был полковник. Стоя у черной доски, он выдавал бесконечный монолог о полетах вертолетов ночью. Я снимаю наездом из глубины зала, чтобы закончить крупным планом. С первой секунды съемки начальной сцены я в полном отчаянии. Его речь звучит настолько фальшиво, что все, что он говорит, буквально невозможно слушать. Я объявляю перерыв.
— Что случилось?
— Ничего, господин полковник, маленькая техническая проблема.
Вместо «маленькой технической проблемы» я столкнулся с почти непреодолимым препятствием: как заставить его говорить естественно. Надо было найти решение. И быстро. Сказать ему прямо в лицо, что он ничтожество, нельзя. Он полковник, я — рядовой второго года службы, он меня загонит в какую-нибудь дыру. Я решаю добиться своих целей окольными средствами. Я почтительно предлагаю ему акцентировать паузы, смотреть на того или иного из «учеников», поочередно поворачиваться то к доске, то к камере, выделять интонацией тот или иной вопрос, как будто кто-то его не понимает. Короче, я использую все психологические ухищрения, какие приходят мне на ум, чтобы его «раскачать», заставить забыть заученный наизусть текст и снова обрести нормальную манеру говорить. После нескольких отснятых сцен произошло чудо. Мой полковник раскрепостился. Конечно, до Ремю ему далеко, но все, что он говорит, стало можно слушать. Или… почти можно. В тот день я открыл то, что называют «руководить актерами». И этим я обязан полковнику. Если бы мне попался какой-нибудь Жан Габен в погонах, я, вероятно, счел бы естественным, что он говорит правильно. И мне не пришлось бы научиться тому, чему я научился.
Расстояние от Тулона до Канн то же, что отделяет безвестность от славы, казарму, где я прохожу часть моей воинской службы, от вспышек кинофестиваля. Желанию преодолеть это расстояние с несколькими друзьями за время увольнительной на уикенд я не мог сопротивляться. Я увлек моих товарищей по общей спальне в эту экспедицию, вызывавшую во мне больше мечтаний, чем в них. Они поехали со мной потому, что я обещал им зрелище, переживания, «настоящих, в жизни», кинозвезд. Я разыграл перед ними комедию, вот что. К сожалению, когда мы оказались на набережной Круазетт, наши надежды были жестоко обмануты. Мы были никто, и перед нами захлопывались все двери. Тогда мне пришла мысль снова надеть военную форму. В солдатских мундирах мы не привлекали особого внимания, когда пробирались в кинозалы через запасные выходы. Редкие люди, замечавшие нас, принимали нас, наверное, за местных пожарных. Я снова вспомнил о кинотеатрах моего бедного (и не столь далекого) детства, о расположенных недалеко от нашего дома кинозалах на Больших Бульварах, куда я пробирался тайком. Таким образом, мы присутствовали на нескольких просмотрах. В частности, на фильме «Черный Орфей» Марселя Камю, который — разговоры об этом доходили до нас — получит Золотую пальмовую ветвь в этом, 1959 году. В большинстве случаев нас, Несмотря на мундиры, бесцеремонно не пускают. Мои однополчане криво улыбаются мне в лицо. Возмущенный, я спрашиваю, кого полагается пускать на просмотры. Я хочу знать это. Я требую ответа. Но никто мне не отвечает. Снова вернувшись в мою тулонскую казарму, я обещаю себе, что в один прекрасный день найду способ беспрепятственно проходить в кинозалы.
Фамилии людей, проходящих перед объективом моей маленькой, 16-миллиметровой камеры, никогда не будут стоять в титрах моего фильма. Это прохожие, более или менее озабоченные, что входят и выходят из «Талеры Лафайет». Перед большим магазином теснится толпа и не обращает на меня внимания. А я определяю места, которые, как я надеюсь, войдут в мой первый фильм. Я уже держу в голове название: «Человеческая сущность». Я пришел отснять планы толпы, которые, может быть, мне пригодятся. Совсем близко от меня, у края тротуара, останавливается роскошный лимузин. Я вижу, как из него вылез шофер, нырнувший в двери «Талеры Лафайет»; вероятно, хозяйка послала его что-то купить. Я смутно различаю ее силуэт. И продолжаю снимать. В промежутке между двумя планами мой взгляд машинально обращается к женщине, сидящей в лимузине. Внезапно у меня замирает сердце. Женщина в машине… это Эдит Пиаф!
Всю жизнь я слышал ее голос. В Алжире, во Франции, во время оккупации, в «Олимпии», дома… Она вдохновляла нас, моих родителей и меня, поддерживала нас, заставляла плакать, глотать от волнения слезы. История ее любви с Марселем Серданом была для нас — и для меня — волшебной сказкой, волновавшей сильнее, чем все голливудские фильмы.
Я не знаю, как осмелился постучать в стекло машины. И все-таки я это сделал. Она опустила стекло. Сомнений быть не могло, это Пиаф. Слова беспорядочно срываются с моих губ:
— Мадам, простите меня, но я… здравствуйте, мадам. Вы не можете представить себе, как я счастлив вас видеть… Все, чем вы являетесь для меня… Я… Вы моя любимая певица. И потом, кроме того, вы любили моего кумира, Марселя Сердана…
Она улыбнулась мне.
— Садитесь в машину. На несколько минут составите мне компанию.
Я не могу в это поверить. Может быть, ее тронула моя искренность… Может быть, ей попросту было скучно. Я залезаю в машину и сажусь рядом с ней. Она беседует со мной. Эдит Пиаф собственной персоной откровенно говорит со мной, вообще видя меня в первый раз! Кстати, возможно, что именно поэтому. Она вспоминает о Марселе Сердане, спрашивает, что я тут делаю с камерой. Все эти несколько волшебных минут я молюсь о том, чтобы ее шофер никогда не возвращался. Но когда я его замечаю, то говорю себе, что его еще может сбить машина. Однако шофер возвращается цел и невредим и похищает «девчонку», вот они оба просто растворяются в уличном движении. «Голубое небо… может рухнуть на нас». Должно быть, все это мне приснилось. Я даже забыл Пиаф снять.
До «Человеческой сущности» я лишь нуждался в деньгах. Теперь я разорен. «Фильмы 13» уже на грани банкротства, и теперь я совершенно не понимаю, как смогу продолжать заниматься кино. Хуже всего, что у меня долги. Фотолаборатории «Эклер» я должен тридцать тысяч франков. И я должен встретиться с патроном этой фирмы Жаком Мато, чтобы объяснить ему, что я не имею никакой возможности расплатиться. У него репутация человека, отнюдь не мягкого в делах. Он ждет меня с жестким видом, уверенный в себе, точно зная, почему я хочу его видеть. Войдя в его офис на улице Гэйон, я готовлюсь к весьма неприятным минутам. Не успел я и сесть, как он мне заявил: