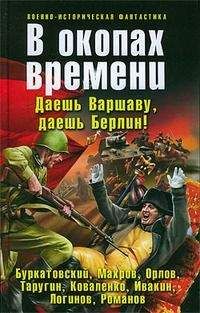Яков Гордин - Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского
После фельетона, положившего начало травле, он не сделал даже попытки устроиться на работу, чтобы избежать преследования. Все, что угодно, – бегство в Москву, психиатрическая клиника, но только не то, что от него требовала власть. «Тварь я дрожащая или право имею?» Он был уверен, что «право имеет» и это право надо отстаивать до конца. Он писал в отчаянном письме из архангельской пересыльной тюрьмы нашему общему другу Боре Тищенко: «Но ведь правота на моей стороне!»
Судья Савельева только что показала ему, чего стоит эта правота, но он не хотел с этим мириться.
Ольга Георгиевна повидалась с официальными лицами и перед отъездом в Москву сказала мне: «Боюсь, дело безнадежно. Комитетское дело…»
Все это не отступление в сторону. Я пытаюсь объяснить, что же в натуре и стихах молодого Бродского выбрасывало его за ту красную черту, до которой власти еще готовы были терпеть особость личности.
Когда после октября 1917 года Ахматова и Гумилев, Мандельштам и Пастернак, Георгий Федотов и Федор Степун столкнулись с наступлением безжалостной несвободы, им помогала могучая инерция предшествующей эпохи и глубоко осознанное, философически и поэтически разработанное представление о свободе и месте личности в системе мира.
У нас за спиной были десятилетия всесторонне обоснованного рабства. И потому энергия высвобождения, которая вела Иосифа, оказалась явлением уникальным.
Если враждебный собственно культуре общественный слой, весьма, впрочем, неоднородный, в начале шестидесятых чуял опасность присутствия Бродского, то сам Иосиф ощущал нарастающую опасность и давление. Для Иосифа это было время появления «больших стихотворений», особого жанра, который и до конца остался для него главным, – время «Шествия», «Большой элегии Джону Донну», «Холмов», грандиозной, но, увы, незаконченной поэмы «Столетняя война», сохранившейся у меня с авторской правкой[9]. Чрезвычайно важно «большое стихотворение» (полтораста строк!) «От окраины к центру», необыкновенно напряженное по отчаянному предвидению своей судьбы:
Слава Богу, чужой.
Никого я здесь не обвиняю.
Ничего не узнать, я иду,
тороплюсь, обгоняю.
Как легко мне теперь,
оттого, что ни с кем не расстался.
Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
Этот жанр «большого стихотворения» фактически не имеет аналогов в русской поэзии. Разве что «Осень» Баратынского. Это не баллады, ибо – как правило – они по сути дела не сюжетны. По той же причине и не поэмы. Это именно – большие стихотворения, развивающиеся по сюжету глубоко внутреннему, который преодолевает и сминает сюжет внешний, даже если его наметки и присутствуют. Особенно чистым образцом жанра были две неоконченные вещи – «Столетняя война» (рукопись которой Иосиф передал мне на хранение перед арестом) и гигантское стихотворение на много сотен строк, начинающееся словами «Пришла зима, и все, кто мог лететь…», исполненная грозного, но неявного смысла грандиозная картина наступления зимы на Севере. И если в «Холмах» есть еще некоторые черты балладности, то «Ручей», «Большая элегия Джону Донну», «От окраины к центру» от этих черт совершенно свободны. Гигантские поэтические диалоги «Исаак и Авраам» и «Горбунов и Горчаков» – это тоже развернутые на необозримых текстовых пространствах стихотворения, ибо построены они по особым принципам поэтической драматургии, а не драматургии вообще. Пьеса «Мрамор», которая вовсе не пьеса, – это бесконечный и хаотичный на первый взгляд диалог – подтверждает существование жанра. Это его прозаический аналог, анализируя который, мы можем понять внутреннюю структуру «больших стихотворений» – диалогов. И тут нужно вспомнить идеи цитированного письма: «Композиция, а не сюжет… Связывай строфы не логикой, а движением души – пусть тебе одному понятным». И еще: «Нужно привыкнуть картину видеть в целом… Частностей без целого не существует». И ведущий принцип «больших стихотворений» – стремительное подчинение частностей целому. Так, река состоит из капель, струй, волн, но все они создают по законам гидродинамики единый поток, и смысл реки, как и ее эстетическая ценность, в том, что она – поток. В самом раннем, пожалуй, из «больших стихотворений» – «Ручье» жанр повторяет фактуру воды, бесконечно струящегося ручья, и все стихотворение – описание струения потока, вбирающего в себя окружающий мир. Это единство отнюдь не случайно.
В «больших стихотворениях» этот принцип потока реализуется еще и в нагнетении интонации, захватывающей сознание читателя, для чего необходимо большое пространство, стиховые длинноты: втягивание, поглощение читательского сознания, завораживание и – преображение. Один из главных принципов воздействия – композиционный! – повторения, бесконечные перечисления, когда неважны становятся сами слова, а важна их общность, их напор, их пространство, дифференцированное чисто условно, поток, – смысл которого в общей направленности движения. Это, собственно, метафора самой жизни…
Идея автономии литературы, которую Бродский с такой страстью обосновал в Нобелевской лекции, была мила ему и в те времена, но она – эта идея – вовсе не была равнозначна проповеди общественного изоляционизма. Сама борьба за независимость литератора уже оказывалась формой острой общественной деятельности. Что бы он позже ни декларировал относительно «презренья к ближнему у нюхающих розы», ему самому это презрение и равнодушие отнюдь не были свойственны. Иначе жизнь его пошла бы совсем по-иному. Бешено отстаивая собственную независимость, он отстаивал независимость человека вообще. Уже после ссылки – в 1970 году – он писал в цитированном стихотворении на 22 декабря:
Когда вблизи кровавят морду,
куда девать спокойный взор?
И даже если не вблизи,
а вдалеке? И даже если
сидишь в тепле в удобном кресле,
а кто-нибудь сидит в грязи?
Можно сколько угодно умозрительно расширять пространство существования поэта, но главная сфера, в которой он взаимодействует с миром, – сфера общественная. Никуда от этого не денешься. И в этом смысле Иосиф был человеком чрезвычайно общественным. А поэт такого типа неизбежно связан с определенной общественной группой, слоем, который создает как бы малый контекст его существования. Эту группу, этот слой не надо путать с дружеским окружением. Молодого Пушкина выдвигало и поддерживало оппозиционное дворянство, активное и многочисленное. За Некрасовым стояла непримиримая разночинная интеллигенция.
Поэту типа и масштаба Бродского для выполнения своей культурной миссии необходимо было иметь сходную общественно-культурную опору. В Ленинграде она оказалась слаба. Я вовсе не хочу сказать, что живи Бродский в Москве, жизнь его текла бы гладко и привольно. Но убежден, что там его неизбежное столкновение с враждебной антикультурой приняло бы другие формы. В Ленинграде же драма марта 1964 года была предрешенной. А когда общественная группа не в состоянии защитить своего поэта – это означает для нее угрозу вытеснения из истории, общественную гибель. «В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор». Так и произошло…