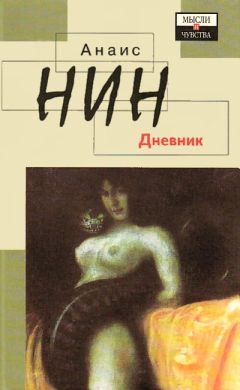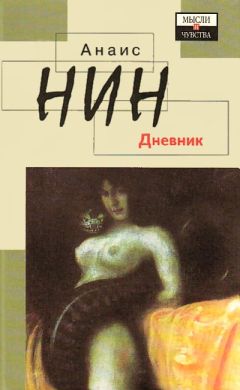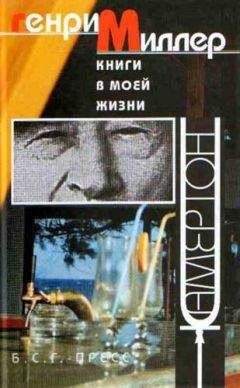Генри Миллер - Эссе
Любопытно и, надеюсь, вполне уместно упомянуть в этой связи о моей реакции на недавнее чтение Гомера. По предложению издателя Галлимара, который предпринял новое издание «Одиссеи», я написал к нему краткое предисловие. Раньше я «Одиссею» не читал, только «Илиаду», да и то несколько месяцев назад. И хочу сказать, что после того, как я шестьдесят семь лет ждал, чтобы прочесть эти всемирно признанные классические произведения, я обнаружил в них многое достойное порицания. В «Илиаде», или «пособии для мясника», как я ее называю, больше, чем в «Одиссее». Но мне бы никогда не пришло в голову потребовать, чтобы их запретили или сожгли. И я, кончив чтение, не боялся, что, обезумев, выскочу на улицу с топором в руке. Мой сын, прочитавший «Илиаду» в возрасте девяти лет (издание для детей), мой сын, признавшийся, что ему «иногда нравится убийство», заявил мне, что сыт по горло этим Гомером со всеми его убийствами и всякой чепухой про богов. Но я никогда не боялся того, что этот мой сын, которому скоро исполнится одиннадцать, все еще зачитывается нашими отвратительными комиксами и увлекается Уолтом Диснеем (мне он совершенно не по вкусу), что он страстный фанат кино, в особенности вестернов; повторяю, я никогда не боялся, что он вырастет убийцей. (Даже если его призовут в армию!) Я предпочел бы, чтобы его умом владели иные интересы, и я сделаю все возможное, чтобы так и случилось, но, как и все мы, он продукт своего времени. Я полагаю, у меня нет необходимости сосредоточиваться на опасностях, которые ожидают всех нас, прежде всего — молодежь, именно в этом веке. Суть в том, что у каждого века свои опасности. Что бы это ни было — черная магия, идолопоклонство, проказа, рак, шизофрения, коммунизм, фашизм, — мы вечно ведем битву. Нам редко удается окончательно победить врага, в каком бы виде он ни выступал. В лучшем случае мы приобретаем иммунитет. Но нам не дано знать, и мы не в силах предотвратить опасности, которые таятся за углом. Неважно, насколько мы образованны, неважно, насколько мудры, неважно, насколько чисты и предусмотрительны, у каждого есть своя ахиллесова пята. Безопасность не суждена человеку. Готовность, бдительность, ответственность — вот защита против ударов рока.
Побуждаемый желанием взять быка за рога, я улыбаюсь про себя, предлагая досточтимым членам суда следующие соображения. Приятно ли будет суду узнать, что, по общему мнению, я считаюсь разумным, здоровым, нормальным человеком? Что на меня не смотрят как на «заядлого любителя секса», извращенца или даже невротика? Ни как на писателя, готового душу продать за деньги? Что как муж, отец, сосед я считаюсь «ценным вкладом» в общину? Звучит немного смешно, не правда ли? Могут спросить, неужели это тот самый enfant terrible{9} который написал непристойные «Тропики», «Розу Распятия», «Мир секса», «Тихие дни в Клиши»? Он переменился? Или просто впал в маразм?
Если быть точным, то вопрос заключается в следующем: является ли автор этих сомнительных произведений и человек, живущий под именем Генри Миллер, одним и тем же лицом? Мой ответ — да. И я к тому же одно целое с протагонистом этих «автобиографических романов». Возможно, такое проглотить уже труднее. Но почему? Потому что я оказался «чудовищно бесстыдным» в раскрытии всех сторон моей жизни? Я не первый писатель, который избрал исповедальный подход, изобразил жизнь в обнаженном виде или использовал язык, не слишком подходящий для ушей школьницы. Будь я святым, подробно излагающим свою жизнь во грехе, вероятно, эти смелые заявления, касающиеся моих сексуальных привычек, были бы признаны назидательными, в особенности священниками и медиками. Возможно, их сочли бы даже поучительными.
Но я не святой и, вероятно, никогда им не стану. Хотя в тот момент, когда я высказываю это суждение, мне приходит на ум, что меня не раз называли так, причем люди, которых суд никогда бы не причислил к тем, кто может иметь подобное мнение. Но нет, я не святой, слава Богу! И даже не пропагандист нового порядка. Я просто человек, человек, рожденный для того, чтобы писать, избравший в качестве темы историю собственной жизни. Человек, в процессе повествования сделавший ясным, что это была хорошая жизнь, богатая жизнь, веселая жизнь, несмотря на взлеты и падения, преграды и препятствия (многие из них созданы собственными руками), несмотря на помехи, навязанные глупыми моральными кодексами и традициями. Надеюсь, я сделал ясным даже большее; ведь то, что я могу поведать о собственной жизни, которая всего лишь одна жизнь, означает разговор о жизни как таковой, и я старался, порой старался отчаянно, сделать ясным, что считаю эту жизнь хорошей, несмотря ни на какие условия, и верю, что только ми делаем ее невыносимой, мы, а не боги, не судьба, не обстоятельства.
Говоря это, я припоминаю некоторые пассажи из постановления суда, бросающие тень на мою искренность, как и на мою способность мыслить честно. Эти пассажи содержат такой подтекст, будто бы я часто бываю намеренно невразумительным и претенциозным в моих «метафизических и сюрреалистических» отступлениях. Я отлично понимаю, какое разнообразие мнений вызывают эти «экскурсы» в умах моих читателей. Но как мне отвечать на подобные обвинения, затрагивающие самую суть моего литературного существования? Следует ли мне сказать: «Вы не понимаете, о чем говорите»? Должен ли я собрать впечатляющие имена — «авторитеты» — в противовес этим суждениям? Разве не проще заявить, как я уже сделал выше: «Виновен! Виновен по всем пунктам, ваша честь!».
Поверьте, вовсе не шутовское и злонамеренное упрямство вынуждает меня произносить вроде бы с юмором это слово — «виновен». Не лучше ли мне как человеку, который искренне и до конца верит в то, что говорит и делает, даже если заблуждается, признать себя «виновным», чем пытаться защитить себя от тех, кто употребляет это слово столь велеречиво? Давайте будем честными. Неужели те, кто судит меня и выносит мне приговор, — не обязательно в Осло, в любом другом месте на земле — неужели эти лица действительно считают меня преступником, «врагом общества», как они зачастую вежливо формулируют? Что именно их так тревожит? Существование, широкое распространение безнравственного, аморального или антиобщественного поведения, такого, как это описано в моих произведениях, или появление этого описания в печати? На самом ли деле люди в наше время ведут себя так «отвратительно» или эти поступки всего лишь плод «больного» воображения? (Неужели кому-то придет в голову в связи с такими писателями, как Петроний, Рабле, Руссо, Сад, упоминать о «больном воображении»?) Уверен, что у кого-то из вас должны быть друзья или соседи, люди с положением, позволяющие себе это сомнительное поведение или того хуже. Как человек, умудренный жизненным опытом, я слишком хорошо знаю, что ни ряса священника, ни судейская мантия, ни униформа учителя не гарантируют иммунитет от плотских соблазнов. Мы все варимся в одном котле, мы все виновны — или невинны, в зависимости от того, смотрим ли на дело с точки зрения лягушки или Зевса. На время я воздержусь от претензий на то, чтобы измерять или определять вину, чтобы, скажем, например, утверждать, что преступник более виновен или менее, чем лицемер. У нас не потому есть преступления, войны, революции, крестовые походы, инквизиция, травля и нетерпимость, что некоторые из нас озлоблены, алчны или склонны к убийству; пагубное состояние дел человеческих происходит оттого, что всем нам, как добродетельным, так и невежественным или злым, не хватает подлинной терпимости, подлинного сострадания, подлинного знания и понимания человеческой природы.