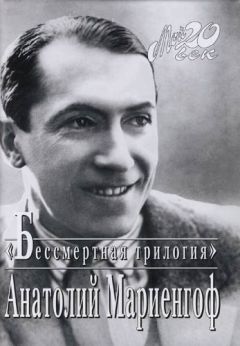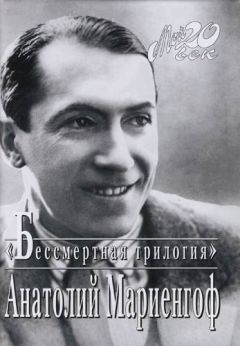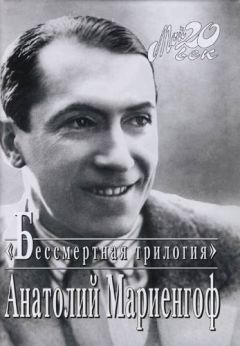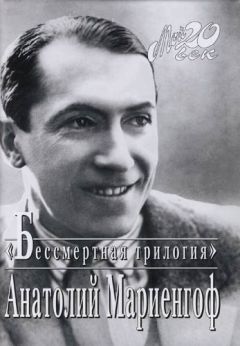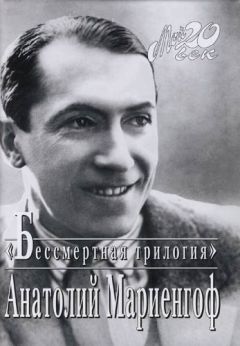Анатолий Мариенгоф - Мой век, моя молодость, мои друзья и подруги
— Почему?
— Как тебе сказать… Видишь ли…
Он подбирает слова, пощипывая свою чеховскую бородку:
— Видишь ли, это что-то лампадное… семинарское…
Отец очень не любил попов.
— И почему «гетера»? Уж если ты хочешь писать об этих женщинах, которых, по-моему, совсем не знаешь, то называй их так, как они называются в жизни: проститутки. Есть и другое слово — простое, народное, конечно, грубоватое, но точное по смыслу. Ну и употребляй его. Пушкин в таких случаях ничего не боялся. А поэму свою так и назови: «Гимн бляди». По крайней мере, по-русски будет. А то — гетера!… Наложница!… Осанна!… Семинарщина, Толя, бурсачество. И откуда бы?
Я огорчен почти до слез. Похрустывая пальцами, выдавливаю из себя:
— А Сереже Громану очень понравилось. Он говорит: идейная поэма. С направлением.
— Ага! С плехановским направлением?… Что ж, весь ваш «подпольный» журнал с таким направлением будет?
Я сердито молчу.
— А тебе, Толя, не кажется, что Сережа ничего не понимает в поэзии? И что он очень высокопарный юноша?
Я продолжаю молчать. «Господи, только бы не зареветь!».
— Ты уж прости, пожалуйста, хоть это и твой друг, но мне думается, он не слишком умный. Как все высокопарное.
Я медленно подхожу к голландской кафельной печке и мелодраматическим широким жестом бросаю свою поэму в огонь.
— Вот и правильно. А теперь, Толя, пойдем погуляем, у меня что-то голова побаливает.
Морозный мартовский вечер. Весна запаздывает. Под ногами хрустит снег. Он кажется мне искусственным. Совсем как аптекарская вата, посыпанная бертолетовой солью.
Детство, детство! Таким аптекарским нетающим снегом покойная мама окутывала красноватый ствол рождественской елки. Она стояла посреди гостиной и упиралась в потолок своей серебряной звездой. Вокруг стройного дерева, увешанного сверху донизу всякой всячиной, мы, дети, должны были петь и скакать, хлопая в ладоши:
Заинька вокруг елочки попрыгивает,
Лапочкой о лапочку постукивает!
Уже в пять лет эта игра казалась мне очень скучной и глупой. Тем не менее я скакал, пел и хлопал в ладоши. Что это было: лицемерие? Нет. Похвальное желание доставить удовольствие маме, которая затратила столько сил, чтобы порадовать меня.
Мы выходим с отцом на Московскую улицу, скупо освещенную редкими фонарями.
В нашей богоспасаемой Пензе (злые языки называют ее Толстопятой) главная улица упиралась в громадный собор дурной архитектуры. Отец называл такую архитектуру «комодной».
По излюбленной левой стороне (если идти от базара) с шести до восьми вечера гуляли гимназисты и гимназистки старших классов. Влюбленные ходили под ручку.
Мы появились на Московской несколько позже. Гимназистов сменили мелкие чиновники и приказчики закрывшихся магазинов. А гимназисток — проститутки.
Во втором квартале, как раз против Бюро похоронных процессий, к отцу подошла женщина с пьяными глазами, подмалеванными жженой пробкой. В зубах у нее торчала папироса.
— Господин мусье, — поцедила она сиплым голосом, — угостите даму спичкой.
— Простите, но я не курю, — солгал отец.
— А твой щенок?
— Нет, нет, не курю! — пролепетал я.
Пьяная женщина, презрительно сузив подмалеванные глаза, ни с того ни с сего матерно выругалась.
Я взял отца за рукав:
— Идем, папа… Идем!… Идем!
Она ругалась:
— Выблядок узкорожий!
Отец сказал негромко:
— Вам, сударыня, выспаться надо.
— А жрать, думаешь, мне не надо? Ты за меня пожрешь?
Отец поспешно протянул женщине три рубля:
— Простите… Вот… пожалуйста.
— Мерси боку!
Она послала отцу воздушный поцелуй.
Я не выпускал рукава отцовской шубы:
— Папа… папа!
— Ну?
Я шептал:
— Пойдем, папа. Пойдем направо, на Дворянскую. Там очень красиво. На тополях иней…
Отец ласково надвинул мне на глаза фуражку с голубым околышем:
— Вот, Толя, это и была та самая «гетера», которой ты посвятил свой гимн.
И улыбнулся своей грустной мягкой улыбкой:
— «Осанна и цветы!…» Несчастная женщина. Боже мой, какая жалкая и несчастная.
Лето 1914 года.
В качестве юнги я хожу на трехмачтовой учебной шхуне по Балтийскому морю. Иностранные порты. Стокгольм, Мальме, Копенгаген… Вот она, Дания, — родина Гамлета.
Я стою под кливерами на вздыбленном носу шхуны. Нордвест воет что-то свое, а я — слова Датского принца:
Мой пульс, как твой!
И мерно отбивает
Он такт, как в музыке…
Стихи подкармливают мальчишеское зазнайство. Несколько позже я его назову честолюбием.
Мы в Копенгагене.
— Отдать концы! — говорит в рупор с капитанского мостика старший офицер.
Опять распущены паруса, опять море. Но оно не серебристое, не пепельное и не бледно-голубое, как русские глаза. А черт его знает какого цвета, вернее — цветов. Какая-то пенящаяся бурда.
Ночная вахта. Юнги называют ее «собакой». Под грохот разваливающихся волн я вглядываюсь в бескрайнюю мглу, как бы пытаясь прочесть там будущее своей жизни: «Моряк, адвокат или поэт? Один из миллионов или один на миллионы?»
А через несколько дней в открытом море, неподалеку от Ганге, куда шли для участия в торжествах по случаю отдаленной Гангутской победы, мы узнали о начавшейся войне между Россией и Германией.
Война! Какая мерзость!
А мы, дурачье, с восторгом орем:
— Ура-а-а!… Ура-а-а!… Ура-а-а!…
Орем до изнеможения, до хрипоты. На загорелых лбах даже вздуваются синие жилы.
Приказ командования: идти в порт Лапвик; затопить — шхуну; возвращаться на родину по железной дороге.
— Чтобы немцы не торпедировали, — поясняет старший офицер.
— Нас?
— Ну, разумеется.
«Торпедировали!…» О, это звучит шикарно.
Мы возвращались через Финляндию в Петербург вместе с курортными расфуфыренными дамами в шляпах набекрень или сползших на затылки, как у подвыпивших мастеровых. Возвращались с дамами в слишком дорогих платьях, но с нечесаными волосами и губной помадой, размазанной по сальным ненапудренным подбородкам. Эти дамы, откормленные, как рождественские индюшки, эти осатаневшие дамы, преимущественно буржуазки, — дрались, царапались и кусались из-за места в вагоне для себя и для своих толстобрюхих кожаных чемоданов.
Одна красивая стерва с болтающимися в ушах жирными бриллиантами едва не перегрызла мне большой палец на правой руке, когда я отворил дверь в купе. К счастью, я уже знал назубок самый большой матросский «загиб» и со смаком пустил его в дело.