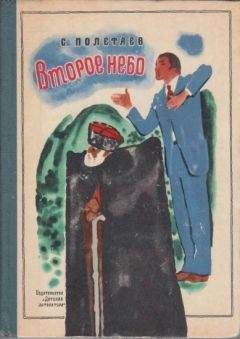София Старкина - Велимир Хлебников
Осознав «ужас и постыдность власти вида» в области этики, Воейков распространяет его и на эстетику. Сугубо человеческое понимание красоты его не удовлетворяет. Он убежден в объективном существовании этого понятия и видит свою задачу как раз в том, чтобы обнаружить, в чем же и где заключается это истинное, вневидовое понятие красоты, это «царство прекрасного». «Вот когда-то, когда я был еще маленьким и у меня были большие голубые глаза, я, помню, восторгался рисунком женской руки с мягкими тонкими очертаниями. Человеческая рука казалась каким-то звуком, долетевшим из царства прекрасного. То же самое человеческое лицо. Смелый изгиб бровей, черный быстрый взор, сочетавшиеся в кудри темные волосы — все это так мне нравилось. Но разве это не было простым проявлением какого-то антропоморфизма в эстетических идеалах и вкусах? Разве это не значит, что если бы я был бы воробьем, то я должен был бы восторгаться корявой лапкой и толстым клювом? А я хочу другого критерия, общего, вневидового. <…> О, что за ego-morfизм здорового человека в <эстетических> законах!»
Для героя начинаются мучительные поиски другого критерия, общего, вневидового, и вскоре эти поиски отчасти увенчиваются успехом:
«А о чем говорит здесь история, прошлая жизнь человечества? История говорит, что некоторым отдельным в отдельные мгновения истории удавалось сбросить с себя цепи вида; и это сразу их так подымало над толпою безропотных рабов, что они делались гениями.
Платон, Шопенгауэр, Ньютон — все они были свободны и были гениями, потому что были свободны. <…> А когда он вдумывался в то, как Ньютон, просто рассматривая числа, открыл бином Ньютона, ему показались мертвяще-искусственными и извне навязанными схемы о индуктивном и дедуктивном методах там, где человек был просто более чутким и более внимательным, где другие были менее чутки и менее внимательны, и <нрзб.> числам, другие как бы менее чутко и менее сильно всем своим существом входили в созерцание этих чисел — такое же вдохновенное, проникновенное, но бессознательное созерцание чисел, как созерцал когда-то Фалес».
Независимые от человеческого сознания закономерности Еня Воейков находит во внешнем мире посредством «интуитивизма». Однако суть его «интуитивизма» противоположна тому смыслу, который придала этому понятию философия нового времени; оба пути, предложенные основателями новоевропейской философии, — индуктивный метод Декарта и дедуктивный Бэкона — представляются герою «мертвяще-искусственными и извне навязанными» схемами. Характерно, что здесь место этической и эстетической проблематики на время занимают «числа», обеспечивающие более надежную характеристику объективного мира. Интерес к философии числа Хлебников сохранит до конца жизни.
Затем автор и его герой вновь обращаются к XVII веку, к началу новой философии. Исследуется проблема детерминизма, взаимоотношения человека и Бога и — что, вероятно, было главным для Хлебникова в связи с темой его произведения — вопрос о человеческой свободе. На первый план выступает сочинение Спинозы «Этика в геометрическом изложении», заключительная часть которого так и называется — «О человеческой свободе». Хлебников пишет:
«Вы удивляетесь красоте слабого, отклоняющего участие и сострадание сильного. Но как велика красота поступка, когда слабое конечное существо отклоняет участие и сострадание бесконечного существа? Не кажется ли вам тогда, что слабое конечное существо вырастает, выходит из границ конечности, и не становится ли оно тогда в вашем сознании, маленькое конечное существо, рядом с великим бесконечным?
Когда Спиноза писал свое: „Кто любит Бога, тот не может стремиться к тому, чтобы и Бог его любил“, он добровольно отказывался от участия и сострадания к себе божества».
Впрочем, герой Хлебникова почти сразу разочаровывается в рационализме Спинозы. Ему кажется, что закон причинности, на котором основывает свои выводы нидерландский мыслитель, есть лишь условие нашего познавания, то есть является характеристикой субъекта, и мы не можем судить об объективных связях в мире на основании этого закона. «Можем ли мы распространить на все жизни условия нашего познавания?» — спрашивает герой. Вопрос, на который, скорее всего, должен последовать отрицательный ответ, остается открытым.[18]
Закон необходимости, «вневидовой критерий», который обнаружил герой, читая Спинозу, оказался лишь «условием познавания», или априорной формой познания, по Канту. Но не случайно в числе гениев, прославивших человеческий вид, Хлебников не упоминает Канта. Позже он скажет: «Я начал с выпада на уру <sic!> против Канта». По мнению поэта, «Кант, хотевший определить границы человеческого разума, определил границы немецкого разума». Итак, Еня Воейков опять оказывается в начале своего пути. Поиски «вневидового критерия» не принесли желаемого результата, но разочарование не остановило героя, а лишь изменило направление его мысли. Эгоморфизм больше не страшит его. Теперь «ему стало страшно за судьбы этих статуй, этих картинных галерей с длинными рядами красиво и искусно уставленных картин; при появлении каждой из них сколько раз произносилось слово „вечность“. Лувр, Дрезденская галерея с Сикстинской мадонной, Национальная картинная галерея в Лондоне; в них, в этих полотнах, в этих мраморах и бронзах, сколько вложено огня вдохновенья, столько потенциального чувства красоты. И все это погибнет».
На пути к преодолению власти вида Хлебников и его герой сталкиваются с проблемой искусства. Вневидового критерия в эстетике, в «царстве прекрасного» Воейков не нашел. Искусство же, хоть и является созданием человека, оказывается гораздо ближе к вневидовому идеалу. В этом убеждении Хлебников не одинок. Подобное понимание роли искусства было выдвинуто Шопенгауэром, которого Хлебников знал и читал, его он упоминает в числе гениев, «сбросивших с себя цепи вида». Но, возможно, в этом фрагменте мысль Шопенгауэра дана опосредованно, через статью Валерия Брюсова «Ключи тайн», ставшую манифестом символизма второй волны (опубликована в первом номере журнала «Весы» за 1904 год).
В первых разделах своей работы Брюсов опровергает все существующие взгляды на искусство и говорит, что «в искусстве есть неизменность и бессмертие, которых нет в красоте. И мраморы Пергамского жертвенника вечны не потому, что прекрасны, а потому, что искусство вдохнуло в них свою жизнь, независимую от красоты». Далее, говоря о «решении загадки искусства», Брюсов по-своему трактует мысль Шопенгауэра. «Искусство, — пишет Брюсов, — есть постижение мира иными, не рассудочными путями. Искусство — то, что в других областях мы называем откровением. Создания искусства — это приотворенные двери в Вечность».