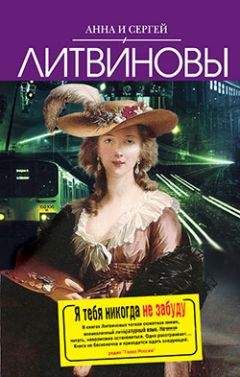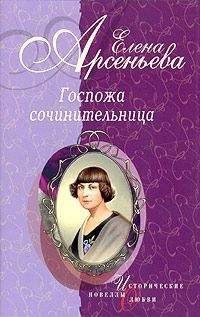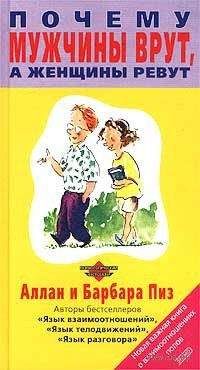Зинаида Гиппиус - Язвительные заметки о Царе, Сталине и муже
Я не могу проводить вечера в разуверениях Карташева, что не люблю Успенского. И, пожалуй, он хочет, чтобы я его продолжала целовать? Да разве это «занятие»? Или «доказательство»? Да это и не-воз-мож-но более! Так длилось.
В одно утро, — Д. С. гулял, я была в ванне, — звонок. Дашин взволнованный голос.
Я одеваюсь. Сердце мое бьется сильно и ровно. Знаю, что ничего не могу иначе, кроме того, что сделаю. Никто не помешает мне и не сорвет в сторону, потому что в грехе для меня давно нет никакого соблазна, в теле нет желаний, противостоящих душе, а в сердце нет жалости. Нету? Совсем?
Вот последний соблазн, в который я, пожалуй, еще могу впадать. Или не могу? Не знаю. Тут осторожнее — но очень все-таки не боюсь.
Ни от чего не отказываюсь, ничего не предрешаю, не угадываю. И так, как будто все (мое самое главное все) не только сбыточно, но есть. Только так.
Да иначе и не могу.
«Но если я ненавижу государство российское?»
Не японская, не турецкая, а мировая. Страшно писать о ней мне. Она принадлежит всем, истории. Нужна ли обывательская запись?
Да и я, как всякий современник — не могу ни в чем разобраться, ничего не понимаю, ошеломление.
Осталось одно, если писать — простота.
Кажется, что все разыгралось в несколько дней. Но, конечно, нет. Мы не верили потому, что не хотели верить. Но если бы не закрывали глаз.
Меня, в предпоследние дни, поражали петербургские беспорядки. Я не была в городе, но к нам на дачу приезжали самые разнообразные люди и рассказывали, очень подробно, сочувственно. Однако я ровно ничего не понимала, и чувствовалось, что рассказывающий тоже ничего не понимает. И даже было ясно, что сами волнующиеся рабочие ничего не понимают, хотя разбивают вагоны трамвая, останавливают движение, идет стрельба, скачут казаки.
Выступление без повода, без предлогов, без лозунгов, без смысла. Что за чепуха? Против французских гостей они, что ли? Ничуть. Ни один не мог объяснить, в чем дело. И чего он хочет. Точно они по чьему-то формальному приказу били эти вагоны. Интеллигенция только рот раскрывала — на нее это, как июльский снег на голову. Да и для всех подпольных революционных организаций, очевидно.
М. приезжал взволнованный, говорил, что это органическое начало революции, а что лозунгов нет — виновата интеллигенция, их не дающая.
А я не знала, что думать. И не нравилось мне все это — сама не знаю, почему.
Вероятно, решилась, бессознательно понялась близость неотвратимого несчастия с выстрела Принципа.
Мы стояли в саду, у калитки. Говорили с мужиком. Он растерянно лепетал, своими словами, о приказе приводить лошадей, о мобилизации. Это было задолго до 19 июля. Соня слушала молча. Вдруг махнула рукой и двинулась:
— Ну, — словом, — беда!
В этот момент я почувствовала, что кончено. Что действительно — беда.
Кончено.
А потом опять робкая надежда — ведь нельзя: Невозможно! Невообразимо!
За несколько дней почти все наши уехали в город. Должны были вернуться вместе в субботу, к нам. Нам предстояли очень важные разговоры, может быть — решения.
Но утром в субботу явилась Т. — одна. «Я за вами. Поедемте в город сегодня». — «Зачем?» — «Громадные события, война. Надо быть всем вместе». — «Тем более, отчего же вы не приехали все?» — «Нет, надо быть со всеми, народ ходит с флагами, подъем патриотизма.»
В эту минуту — уже помимо моей воли — решилась моя позиция, мое отношение к событиям. То есть коренное. Быть с несчастной, не понимающей происходящего, толпой, заражаться ее «патриотическими» хождениями по улицам, где еще не убраны трамваи, которые она громила в другом, столь же неосмысленном «подъеме»? Быть щепкой в потоке событий? Яине имею права сама одуматься, для себя осмыслить, что происходит? Зачем же столько лет мы искали сознания и открытых глаз на жизнь?
Нет, нет! Лучше, в эти первые секунды, — молчание, покров на голову, тишина.
Но все уже сошли с ума. Двинулась Сонина семья с детьми и старой теткой Олей. Неистовствовал Вася-депутат.
И мы поехали в Петербург. На автомобиле.
Неслыханная тяжесть. И внутреннее оглушение. Разрыв между внутренним и внешним. Надо разбираться параллельно. И тихо.
Присоединение Англии обрадовало невольно. «Она» будет короче.
Сейчас Европа в пламенном кольце. Россия, Франция, Бельгия и Англия — против Германии и Австрии.
И это только пока. Нет, «она» не будет короткой. Напрасно надеются.
Смотрю на эти строки, написанные моей рукой, — и точно я с ума сошла. Мировая война!
Никто не понимает, что такое война, — во-первых. И для нас, для России, — во-вторых. И я еще не понимаю. Но я чую здесь ужас беспримерный.
Все растерялись, все «мы», интеллигентные словесники. Помолчать бы, — но половина физиологически заразилась бессмысленным воинственным патриотизмом, как будто мы «тоже» Европа, как будто мы смеем (по совести) быть патриотами просто. Любить Россию, если действительно, — то нельзя, как Англию любит англичанин. Тяжкий молот наша любовь. настоящая.
Что такое отечество? Народ или государство? Все вместе. Но если я ненавижу государство российское? Если оно — против моего народа на моей земле?
То там, то здесь собираемся. Большинство политиков и политиканствующих интеллигентов (у нас ведь все политики) так сбились с панталыку, что городят мальчишеский вздор. Явно, всего ожидали — только не войны. Как-то вечером собрались у Славянского. Народу было порядочно. Карташев, со своими славянофильскими склонностями, очень был в тоне хозяина.
Впрочем, не обошлось и без нашего «русского» вопроса: желать ли победы. самодержавию? Ведь мы вечно от этой печки танцуем (да и нельзя иначе, мы должны!). Военная победа — укрепить самодержавие. Приводились примеры. верные. Только. не беспримерно ли то, что сейчас происходит?
Говорили все. Когда очередь дошла до меня, я сказала очень осторожно, что войну по существу, как таковую, отрицаю, что всякая война, кончающаяся полной победой одного государства над другим, над другой страной, носит в себе зародыши новой войны, ибо рождает национально-государственное озлобление, а каждая война отдаляет нас от того, к чему мы идем, от «вселенскости». Но что, конечно, учитывая реальность войны, я желаю сейчас победы союзников.
Керенский, который стоял направо, рядом со мною и говорил тотчас после меня, подхватил эту «вселенскость» (упорно говоря «вселенность!») и, с обычной нервностью своей, сказал приблизительно то же и так же кончил «за союзников». Но видно, что и он еще в полноте своей позиции не нашел. Военная зараза к нему пристать не может, просто потому, что у него не та физиология, он слишком революционер. А я начинаю прощупывать, что тут какое-то «или-или». Впрочем, рано, потом.