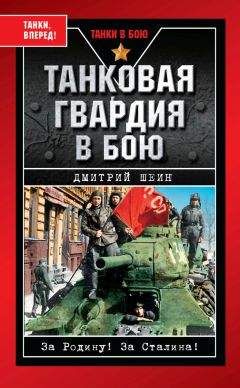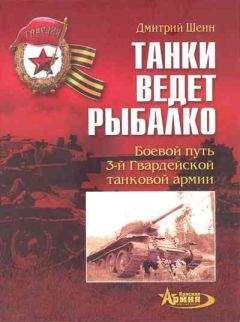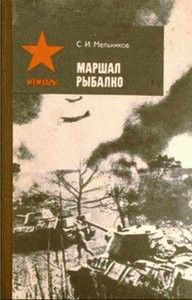Жюль Ренар - Дневник
Когда мне показывают рисунок, я разглядываю его ровно столько, сколько нужно для того, чтобы придумать отзыв.
11 марта. Вчера у меня обедал Альсид Герен. Вот что значит приглашать авторов статей! Лысенький господинчик с лицом еврея-ханжи. Говорят, что он только и делает, что молится, ходит к обедне, причащается, постится по пятницам. Когда он разглагольствует об отчизне, он тут же произносит слова «душевное прискорбие» с каким-то горловым бульканьем, чуть ли не воркуя.
Голос кастрата…
Он говорит: «Я-то лично, я ничто, и всегда буду ничтожеством». Сказав, ждет, чтобы присутствующие запротестовали, но все молчат, и его лицемерие вынуждено уползать, как мерзкий слизняк в раковину.
Мы спорим с Рейно о Малларме. Я говорю: «Какая глупость». Он говорит: «Какая прелесть». И наш спор как две капли воды похож на любую литературную дискуссию.
23 марта. Бальзак, пожалуй, единственный, кто имеет право писать плохо.
24 марта. Символизм. Похоже на классическую фразу путешественников, отъезжающих в одно и то же время: «Значит, едем вместе». А по прибытии расходятся в разные стороны.
7 апреля. Стиль — это забвение всех стилей.
13 апреля. Один из сотни существующих приемов отвечать на комплимент: «Ваши слова мне особенно дороги, поскольку я знаю — вы человек независимо мыслящий!»
15 апреля. Доде, в ударе, рассказывает нам о сборах Гогена, который решил ехать на Таити, чтобы не видеть людей, и никак не мог собраться. Он до того тянул, что даже лучшие его друзья говорили: «Пора вам уезжать, голубчик, пора уезжать!»
* Критик — это ботаник. А я — садовник.
17 апреля. Верно, я сказал, что у вас есть талант, но я отнюдь не настаиваю на этом.
21 апреля. Новый поворот: ребенок рыдал, как взрослый мужчина.
* Все-таки мы раскаиваемся в непоправимых обидах, обидах, которые нанесли людям, ныне уже покойным.
22 апреля. Посетил сегодня выставку Эжена Каррьера. Мучительное безумие девочек и девушек, в которых есть своя прелесть, пугающая грация развеселившихся истеричек. Болезненные и тоже безумные матери, которые дают уродливую, плохо нарисованную грудь своим младенцам. Младенец, у которого почему-то в голове красные цветы и который похож на противного ваньку-встаньку. Излюбленная поза: голова, подпертая рукой. Прилипшие друг к другу тела. Лица словно из камня высечены. Жеффруа, этот безмолвствующий меланхолик, утверждает, что все эти головы мыслят. Не думаю: скорее перестали мыслить. Все они полумертвые, вялые, словно после какой-то ужасной катастрофы. «Разве жизнь такая уж забавная штука?» — говорит Жеффруа. К черту все это! Эти люди тянут нас в яму. Они представляют собой определенный интерес. Но что это все значит? Конечно, не так уж трудно настроить себя на восторженный лад. Там, где художник ищет, возможно, лишь эффектную игру света или линий, мы видим реальные вещи. Потустороннее. Мазня, доведенная до шедевра. Пьянеешь, необходимо во что бы то ни стало протрезвиться и убраться прочь. Великое искусство не здесь.
24 апреля. Вечером у Доде. Маленькая девочка, как здесь рассказывают, превратила подаренного ей картонного петушка в полноправного субъекта, окрестила его «Петушком мосье Ренара» и ведет с ним бесконечные беседы. Блистательная Жанна Гюго со своим великолепным, со своим породистым носом, как у Виктора Гюго. Гонкур с добродушной миной, которая кажется мне фальшивой (почему?), говорит о том, что книги его плохо идут, хотя некоторые из них наделали шуму.
Рони без устали болтает о своем жупеле — то бишь о Гюисмансе. До меня доносятся его слова: «Дабы извергнуть время свое, надо сначала это время проглотить. Теперь, в наши дни, каждый мнит себя бунтарем». По этому поводу Доде замечает:
— А я вот отказался вступить в Академию. И никто не счел меня бунтарем. Почему бы это?
Какой-то безволосый господинчик все время говорит со мной о моей книге. Каким несносным болтуном показался бы он мне, если бы говорил о чем-нибудь постороннем!
* Некто послал даме любовное письмо, оставшееся без ответа. Он старается найти причину молчания. И наконец решает: надо было приложить почтовую марку.
1 мая. Что наша фантазия в сравнении с фантазией ребенка, который задумал построить железную дорогу из спаржи!
7 мая. Схватить за шиворот ускользающую мысль и ткнуть ее носом в бумагу.
* Я очень хорошо знаю, что фраза меня замучит. Наступит день, когда я больше не смогу написать ни слова.
Больше всего боюсь превратиться со временем в какого-то безобидного салонного Флобера.
9 мая. Прекрасно все. Даже о свинье следовало бы говорить теми же словами, что и о цветке.
16 мая. Был вчера на выставке Моне. Эти стога с синеватыми тенями, эти поля, пестрые, как носовой платок в клеточку.
24 мая. Путешествие в Шатр, в этот край, где Жорж Санд чтят наравне с богородицей. Там у нее был «свой» мясник, «свой» кондитер, «свой» парикмахер, которого она привозила на месяц в Ноан.
Я путешествовал с Анри Фукье и заставил себя не спрашивать его фамилию, не добиваться, чтобы он спросил мою. Беседовать о литературе с неизвестным тебе человеком — это лучший способ поддерживать добрые литературные отношения.
Она, Жорж Санд, восседает посреди сквера в своей классической позе, как в «Комеди Франсез»…
«В самый разгар работы, — рассказывает на обратном пути Фукье, — Жорж Санд могла встать из-за письменного стола, потому что ей требовался мужчина. Она писала страницу за страницей, как строгают доски». Ее дочь Соланж, пожалуй, еще более занятная особа. В ней мирно уживаются артистизм, разгул и домовитость: как-то уже в конце бала, в шесть часов утра, она заявила Фукье: «Пойду домой, хочу проверить, что делает прислуга».
26 мая. Каждое утро думать о людях, которых надо растить, о комнатных цветах, которые надо поливать.
28 мая. Швоб рассказывает: молодой человек приходит просить работу у банкира. Банкир выставляет его за дверь. Проходя через двор, молодой человек подбирает с земли булавку. Банкир велит его вернуть, обзывает вором и снова выгоняет».
Это, пожалуй, человечески понятнее, чем история Лафитта[35].
* Не быть никогда довольным: все искусство в этом.
18 июня. Не беспокойтесь! Я никогда не забуду услугу, которую вам оказал.
15 июля. Я за вами не пойду даже на край света.
31 июля. Поверьте мне, и книга обладает своей стыдливостью, так что не нужно слишком много о ней говорить.