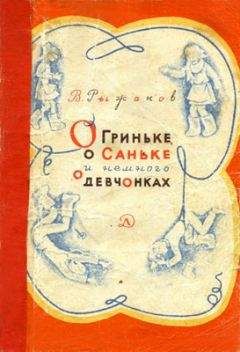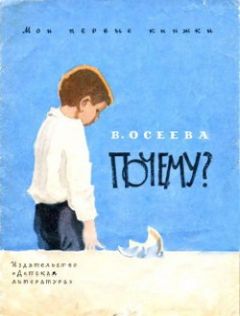Варлаам Рыжаков - Капка
Я сморщилась.
- Не надо, Зойк.
- А все уже.
Я открыла глаза.
Перед моим лицом ладонь Зойкиной руки, а в ней иголка.
Зойка гордо улыбалась.
- Убери, Зойк, больно.
- Когда протыкаешь, больно. А сейчас нет. - Зойка рывком вытащила иголку, сказала: - Хочешь, я щеку проткну?
- Нет, Зойк, не хочу.
- А то проткну. Теперь Шурке нечем станет хвалиться. Ох он и обозлится!..
Нюрка позвала меня завтракать.
- Иду.
А сама не двигаюсь.
Мне не хочется расставаться с Зойкой. Она приколдовала меня своими фокусами.
А фокусами ли? Нет. Разговорами о Шурке?
Я испугалась и чего-то устыдилась. Я вдруг поняла, чего я ждала все утро, чему радовалась.
Я ждала встречи с Шуркой и почему-то боялась этой встречи, оттягивала ее.
Зойка очень схожа с Шуркой.
У нее такие же рыжие глаза, такие же кудрявые волосы. И лицо у нее такое же смуглое, только чуточку посветлее и курносее. И повадками Зойка походила на Шурку.
* * *
После завтрака я осталась одна.
Мама ушла на ферму. Нюрка увела в ясли Сергуньку с Мишкой.
Я припасла Шурке завтрак, на всякий случай спрятала его за сундук и, поджидая Зойку, взяла книгу, присела к столу.
А может, не ждать ее. Разболтает еще. Я захлопнула книгу, положила ее на стол. Пойду. И снова села.
Что это я? Что со мной? Боюсь?
Встала, прошла по комнате. Остановилась у зеркала. Какая я некрасивая. Причесалась.
Все равно некрасивая. Бледная, брови чуть заметно, и нос - какая-то закавыка малюсенькая.
Любовь... Я улыбнулась, засмеялась. Упала на мамину кровать и заплакала.
- Мама... Мамочка!..
Тишина комнаты глухо молчала.
Стучали ходики: "Лю-бовь! Лю-бовь! Лю-бовь!"
- Не буду любить! Никого не буду. Не хочу любить!
"Лю-бовь! Лю-бовь! Лю-бовь!" - грохотали ходики.
- Нет! Нет! Нет!
Я вскочила, подбежала к стене, остановила маятник часов.
- Нет!
Опомнилась, стыдливо прижалась затылком к прохладному бревну стены. Подняла руку, толкнула маятник.
Вошла Зойка, осторожно поставила на пол корзинку.
Я отвернулась, торопливо вытерла слезы.
- Куда ты, Зойк?
- К Шурке.
- С корзинкой?
- И что? Он, поди, как волк голодный.
- Он ужинал...
Помолчали.
- Кап, а что ты какая грустная?
- Не знаю.
- Ты плакала?
Я кивнула.
- Некрасивая я, Зойк.
- Выдумала. Вот я некрасивая. А ты, Кап, красивая. Лицо у тебя белое, губы тонкие, а глаза большие-большие, синие-синие. И волосы у тебя гладкие, белые. Нет, Кап, ты красивая.
Я обняла Зойку, прижала к себе.
- Неправда.
- Правда, правда, Кап.
Мы вышли, обогнули дом, пересекли лужайку, прошли мимо плетня. Завернули за сарай.
Я остановилась.
- Ты, Зойк, иди, а я тебя тут обожду.
- Куда?
- Вон в тот бурьян. Там погреб есть. Шурка в нем.
- А ты что?
- Я...
- Вы разругались?
- Нет, Зойк, иди.
Зойка пошла. А я смотрела ей вслед и ждала, что она обернется и позовет меня. Но Зойка... Зойка скрылась в бурьяне.
У меня заныло в груди.
Меня неодолимо потянуло к бурьяну в погреб, но страх и стыд удерживали на месте.
Чего я стесняюсь, говорила я себе, погреб мой, пойду.
Делала несколько шагов вперед и полукругом, будто прогуливаюсь, возвращалась на старое место.
Кого я боюсь? Шурки?
Я замирала и прислушивалась.
Нет, не его. Его мне хочется видеть. А кого же? Чего же? Пойду. Шаг. Еще несколько шагов. Еще маленький-малюсенький шажочек. Бурьян. И снова полукруг. И опять я на прежнем месте.
Над бурьяном выросла кудрявая Шуркина голова.
- Кап...
Я испуганно метнулась прочь. Вбежала в дом, спряталась за печку.
Тихо-тихо. Тревожно колотится сердце.
Кап. Не Капка, а Кап.
Я прыгнула к зеркалу.
- Красивая я... Ой, какая красивая!..
Три дня и три ночи скрывался Шурка в моем "царстве" - погребе. Три дня мы с Зойкой носили ему еду. Обкормили. Шурка зазнаваться стал. Что похуже, откладывал, нам самим приходилось доедать, не выбрасывать же.
Мы чего-чего только не носили Шурке! Картошки и вареной, и жареной, каши, хлеба, лепешек, огурцов, и молока, и сметаны, и творогу, и яиц, и похлебки горячей.
Шурка начал поговаривать: не остаться ли ему насовсем в погребе.
- Ты что?! - испугалась Зойка. - Мама насмерть забьет кота. Потом за меня примется.
А я обрадовалась. Я привыкла к Шурке. Я его нисколечко больше не стеснялась. Удивительно.
Сначала Зойка силком тянула меня в погреб. Правда, я не очень сопротивлялась. Боялась, как бы Зойка не отступилась от меня. Но шла и не знала, куда глаза прятать от стыда. А пришла - ничего. Разговаривала, смеялась, рассказывала даже, как мы с мамой хлев строили поросенку и как он потом его развалил.
Только взглядом с Шуркой встречаться робела.
Бедовый у Шурки взгляд. А сам он деловой, без работы сидеть не любит. Хлев нашему поросенку смастерил такой, что его не только поросенок - бык не изломает.
Мама не нарадуется и все пытает меня.
- Откуда это у тебя такой ловкач выискался, а? И хлев сколотил, и западню в подпол устроил, и скамейку починил. Что ж ты молчишь? допытывалась мама.
- О нем нельзя говорить. Он все это мастерил украдкой. Он, мам, беглый.
Мама испуганно всплеснула руками и сокрушенно покачала головой.
- Этого нам еще не хватало.
Но я заметила в маминых глазах смешинку и поняла, что она все знает. Я прижалась к ней.
- Мам, ты не скажешь?
- А я знать ничего не знаю и ведать не ведаю.
- Знаешь, мамочка, знаешь.
- Возьми вон маленькую подушку. Да ключ от сарая дай ему. Не ровен час, дождь пойдет - спрячется.
- Мама...
Я уткнулась лицом ей в грудь.
- Ну, будет, будет.
Мама отстранила меня и заглянула мне в глаза. Тихо, печально улыбнулась.
Колькиным родителям Шурка написал письмо.
"Дядя Рома и тетя Вера, Колька ни в чем не виноватый. Сарай
сгорел из-за меня, Колька говорил мне, чтобы я развел костер
подальше, но я не послушал его.
Мы хотели пекарить картошку. Пока собирали дрова, сарай и
запылал.
Я один виноватый, мне и отвечать положено.
Ш у р к а М а ш и н".
Зойка отнесла письмо и отдала дяде Роме в собственные руки. Но письмо опоздало, Кольку уже выпороли. Мать выпорола, да так, что он, говорят, за обедом и то не присел на лавку. Бедный Колька!
А Шурке сошло. Отсиделся в погребе.
Мать Шуркина изволновалась вся. Всех обспрашивала: не видали ли, не встречали ли Шурку? В соседнее село к своей сестре бегала - искала пропадущего. А он был рядышком, книжки почитывал. И не показался бы, да каникулы кончились.
Растрепал пострашнее волосы, вымазался в саже, сделал грустное-прегрустное лицо и явился.
Мать от радости не знала, куда его и усадить. Баню специально для него протопила: мойся, Шурка-страдалец. И Шурка вымылся. На другой день в школу пришел чистенький, наглаженный, в новом коричневом костюме.