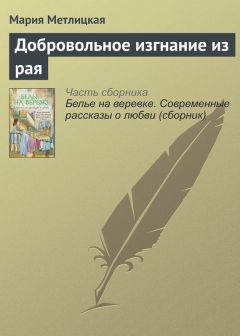Владимир Николаевич Орлов - Гамаюн. Жизнь Александра Блока.
Через пять дней первомартовцы были повешены. А Соловьев заплатил за свой христианский призыв академической карьерой.
В тот самый день, когда в Петербурге выступил Соловьев, в Москве, в Славянском обществе, произнес речь Иван Аксаков. Это было тоже предупреждение, но уже в другом роде: «Мы подошли к самому краю бездны. Еще шаг… и – кровавый хаос».
А потом наступила паучья тишина. В гатчинском затворе сидел «хозяин земли русской», неповоротливый огромный бородач. Всюду торчали нетопырьи уши Победоносцева. У кормила стояли главный распорядитель внутренних дел Дмитрий Толстой, ведавший просвещением Делянов и мастер полицейского сыска Плеве. В печати тон задавали идеологи режима – осатанелый Катков и боголюбивый Константин Леонтьев, убежденный, что полезно маленько «подморозить» Россию.
Восьмидесятые годы – это сочиненный Победоносцевым манифест 29 апреля 1881 года о неуклонном обережении начал самодержавия и «положение об усиленной и чрезвычайной охране»; это «временные правила о печати», зажавшие в тиски русское слово; это новый университетский устав и драконовские «правила для студентов», грозившие непокорным отдачей в солдаты; это введение института земских начальников – опоры престола в деревне; это ограничение суда присяжных, иссушающая мозги «классическая система» гимназического образования, передача низшей школы в ведение Синода в целях укрепления духовно-нравственного воспитания и много чего другого в том же сусально-елейном, православно-полицейском охранительном духе.
Все было несообразно с временем и нелепо-уродливо, вроде нововведенной военной формы в «русском стиле», которая делала генерала неотличимым от городового: извозчичий кафтан, широкие штаны в сборках, сапоги бутылками.
Востока страшная заря
В те годы чуть еще алела…
Чернь петербургская глазела
Подобострастно на царя…
Народ толпился в самом деле,
В медалях кучер у дверей
Тяжелых горячил коней,
Городовые на панели
Сгоняли публику… «Ура»
Заводит кто-то голосистый,
И царь – огромный, водянистый —
С семейством едет со двора…
2
В эти сонные и мглистые годы растет мальчик. Растет без отца, окруженный обожанием и нежной заботой матери, бабушки, теток. «Золотое детство, елка, дворянское баловство, няня, Пушкин…» Обо всем этом Блок хотел рассказать в «Возмездии», но не успел, – остались только наметки плана.
Жизнь шла своим чередом. При всей ее монотонности, было в ней и то, что Блок назвал «апухтинской ноткой».
Апухтин – поэт, необыкновенно характерный для эпохи безвременья. Он был общедоступен, подкупал открытой эмоциональностью своего лиризма, и нота его звучания – это не только элегическая грусть, но и кипение страстей, мелодраматическая патетика, поэзия ямщицких троек, шампанского, цыган, «ночи безумные, ночи бессонные, речи несвязные, взоры усталые»…
Гитарная струна вообще сильно звучала в поэзии тех медленно тянувшихся лет. От духоты и скуки люди очертя голову бросались в цыганщину, и, как Феде Протасову из «Живого трупа», какая-нибудь «Канавэла» или «Не вечерняя» переворачивала им душу, «открывала небо»,
И жаль мне ночи беззаботной,
В которой, на один хоть час,
Блеснула гостьей мимолетной
Жизнь, не похожая на нас…
Вот она – апухтинская нотка…
В ректорском доме продолжала собираться молодежь – и кудлатые «идейные» студенты, и «мыслящие» офицеры милютинской закваски, и среди них – девически юная мать, соломенная вдова. Расставшись с Александром Львовичем, Аля пришла в себя – поправилась, похорошела и повеселела.
Молодежь развлекалась, а на другом конце дома, в тихой детской, под боком у прабабушки, «ребенок – не замешан, спит в кроватке, чисто и тепло». А утром, в кабинете деда, сидя на полу, рассматривает картинки в тяжелых томах Бюффона и Брема, и «няня читает с ним долго-долго, внимательно, изо дня в день:
Гроб качается хрустальный..
Спит царевна мертвым сном».
Все это вспомнилось через много лет:
И пора уснуть, да жалко,
Не хочу уснуть!
Конь качается качалка,
На коня б скакнуть!
Луч лампадки, как в тумане,
Раз-два, раз-два, раз!..
Идет конница… а няня
Тянет свой рассказ…
Внемлю сказке, древней, древней
О богатырях,
О заморской, о царевне,
О царевне… ах…
Когда старика Бекетова отстранили от ректорства и семье пришлось покинуть гостеприимный старый дом на берегу Невы, начались переезды с квартиры на квартиру – с Пантелеймоновской на Ивановскую, оттуда – на Большую Московскую. Блок смутно запомнил «большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками, елками…». С Пантелеймоновской его водили гулять в Летний сад – как примерно лет за семьдесят перед тем monsieur l’Abb водил Евгения Онегина.
С фотографий тех лет на нас глядит очаровательный нарядный мальчик, «маленький лорд Фаунтлерой», ясноглазый и русоволосый, весьма благонравного вида. На самом же деле он рос живым, шаловливым, обожал шумные игры – в конку, в войну, с беготней и криками, в картонных латах и с деревянным мечом.
И еще была «благоуханная глушь маленькой усадьбы», без которой непредставимы ни жизнь, ни поэзия Александра Блока.
После «эмансипации» дворянские земли, перешедшие в руки маклаков, подешевели. В 1874 году Андрей Николаевич Бекетов, получивший небольшое наследство, по примеру и совету своего друга Дмитрия Ивановича Менделеева, который уже девять лет владел именьем в Подмосковье, в Клинском уезде, нашел в тех же местах усадьбу и для себя. Бекетовское Шахматово лежало в семи верстах от менделеевского Боблова.
Усадьба была и в самом деле невелика: скромный, еще начала века, помещичий дом со службами и садом и сто двадцать пять десятин земли, почти сплошь под лесом, который не успели свести до конца.
Местность кругом была холмистая, изрезанная крутыми оврагами. Горбились серые деревни, белели церкви, поставленные, как всегда, с тонким расчетом – то на холме, то под холмом. Неподалеку были расположены старинные усадьбы Татищевых, Батюшковых, Фонвизиных (здесь в свое время живал автор «Недоросля»).
От ближайшей железнодорожной станции Подсолнечная (по Николаевской дороге) с большим торговым селом, земской больницей, постоялыми дворами – семнадцать верст, сначала по шоссе, потом – ухабистым проселком, через болота, гати, поемные луга и раскинувшийся на много верст казенный Прасоловский лес. После глухого ельника как-то вдруг, неожиданно на пригорке возникало Шахматово: несколько крыш, тонувших в густых зарослях. Деревни рядом не видно. Дорога упиралась прямо в ворота.