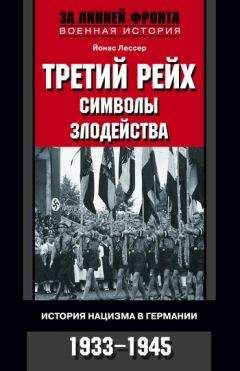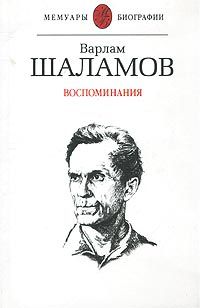Нина Одолинская - Советские каторжанки
Зима шла своим чередом. Уже ждали появления солнца, дни стали длиннее, а морозы — сильнее. В лагерь провели электричество, но в палатках с черными стенами все равно было темно.
И вскоре после появления электричества привезли кино. Крутили его в бараках по очереди. Фильм назывался «Первая перчатка» — звуковой, музыкальный, в главных ролях Орлова и Кадочников... Экраном служила простыня, натянутая на торцевую стенку барака. Зрители залегли на нарах. А на экране влюбленные герой и героиня летней ночью под луной катались на лодке по пруду.
Милый друг, наконец-то мы вместе!
Ты плыви, наша лодка, плыви!
Сердцу хочется ласковой песни
И хорошей большой любви...
Справа и слева от экрана висели на веревках портянки и валенки. Пахло потом и грязной рабочей одеждой, сушившейся под потолком. Ползали и кусались клопы. Все чесались от вшей.
В темноте на нарах сидели и лежали молодые, еще не любившие девушки — украинки и русские, татарки и гречанки. Смотрели кино — и плакали. Плакали оттого, что кино напоминало им волю, все человеческое, доброе, светлое, чего они были лишены. Не потому, что они преступницы, а по прихоти могущественных и злобных ничтожеств, наделенных неограниченной властью над людьми. И никто не ведал, как долго будет длиться это рабское существование; знали только, что пятнадцать—двадцать лет такой страшной жизни вряд ли выдержат. Плакали над своей загубленной молодостью.
Больше кино не привозили.
Солнце показало над горизонтом оранжевый краешек в ясный морозный день. Все бросили работу и, затаив дыхание, смотрели на тоненькую оранжевую полоску, загоревшуюся там, где синеватые снежные дали сливались с бледно-серым сумеречным небом. Первая, самая тяжелая зима шла на убыль.
А меня не оставляла мысль о побеге. Вероятно, эта бредовая идея, целиком завладевшая мной, не давала окончательно подняться на ноги. Я ходила шатаясь от слабости, всегда в ватных штанах, и меня принимали за доходягу из мужских бараков.
Жить не хотелось, но покончить с собой не хватало силы воли. И я решила: нужно взять и уйти из лагеря. Выживу — хорошо. Если же погибну — то на воле, а не в лагерном рабстве. И когда срывалась пурга, я ходила вдоль колючей проволоки и прикидывала, где можно будет пролезть через ограждение во время самых сильных снежных порывов ветра. Я представляла, как пойду на юг, пересеку узкоколейку, поднимусь на хребет — и оттуда будут видны огни далеких городов. Но эти огни и пойду, пересекая тундру. Тогда и решится моя судьба — жить или не жить. Если погибать, так в борьбе...
Через десять — пятнадцать минут такого хождения вдоль проволоки я замерзала и шла в барак, к печке. И вяло думала: нет, не сегодня. Вот в следующий раз обязательно уйду...
Но следующая пурга срывалась неожиданно, и оказывалось, что я не подготовлена к побегу.
Иногда удавалось не выходить на работу — «камышить». И тогда после утренней проверки я забиралась на нары и спала целый день. «Закамышивших» девушек первое время не трогали, просто заставляли что-то делать в лагере, но позже, когда их стало чересчур много, пришлось принимать меры. После развода в бараках появлялся нарядчик Иван Ковальчук со списком больных, освобожденных от работы, и во время проверки спрятаться было уже труднее.
Я пряталась иногда в сушилке, у Нади Бедряк. Надя бегала на свидания с поваром и поэтому работала в сушилке. Во время проверки она кричала: «Здесь двое!» — и проверяющие, не заглядывая, уходили.
Но однажды меня обнаружил проверяющий Колтырин. Он бил меня черенком от лопаты. Я молчала, он от этого злился еще сильней, матерился, перекосив щербатый рот.
Когда я в очередной раз, обессилев, не вышла на работу, меня обнаружили и посадили в БУР.
К весне мужчины возвели все необходимые постройки. В комплексе лагерной тюрьмы был построен и отдельный барак усиленного режима — БУР, с камерами штрафных изоляторов — ШИЗО — для особо провинившихся.
В БУРе оказалась целая компания женщин и мужчин, посаженных сюда за разные мелкие нарушения. Нас выводили в рабочую зону с отдельным конвоем.
В тот день, двадцать пятого марта, завели в середину рабочей зоны, дали лопаты, конвоир протоптал тропку вокруг и сказал, что за нарушение этой внутренней запретзоны будет стрелять. Было приказано очистить от снега участок, на котором рабочие бригады будут потом снимать грунт, выравнивать площадку. Мы ломали лопатами неподатливый, спрессованный морозами снег и отбрасывали в сторону. Работа казалась бессмысленной: вокруг простиралось чуть холмистое снежное поле, людей поблизости не было. От яркого мартовского солнца чернело лицо, но греть оно не грело, дул холодный ветер. В балок на обогрев нас не пускали. Знакомых в бригаде у меня не было, и потому время тянулось особенно медленно.
Понадобилось сходить по нужде, но вокруг не было никакого укрытия, а в бригаде были мужчины. В нескольких шагах от границы участка виднелся небольшой сугроб, и я, оглянувшись на спокойно стоявшего солдата, пошла туда. Вернулась, снова взялась за лопату. Отдыхать было невозможно из-за холода, а усталость брало свое.
Когда солнце стало спускаться к горизонту, мне снова понадобилось сходить к сугробу, куда уже протопталась в снегу узкая тропинка. Когда я переступила границу, часовой, видно сменившийся к тому времени, закричал:
— Стой, куда идешь!
Я от усталости не обратила на крик внимания, зашагала поскорей к сугробу. А часовой, прокричав еще раз: — Стой, стрелять буду! — выстрелил.
Что-то обожгло правую щеку, и до сознания дошел истерический вопль:
— Нинка! Скорей назад! Сдурела, что ли?..
Я оглянулась. Часовой щелкнул затвором и торопливо шел в мою сторону. Я повернулась, сделала несколько шагов — и снова очутилась в зоне бригады. Солдат дергал затвор (что-то заело) и матерился. Наташа —молодая русская женщина повисла у него на руке и кричала:
— Ты не имеешь права стрелять, смотри, она вернулась! Часовой отмахнулся, так что толкнул ее в снег, но стрелять не стал. Наташа поднялась, отряхнулась и бросилась ко мне. Подбежало еще несколько девушек. У меня со щеки капала кровь, ярко окрашивая белый снег.
— Разойдись! — заорал часовой. —Не подходить! Он злился: промахнулся, не сумел вовремя пристрелить эту проклятую контру, которая небось опять решила бежать...
— Не подходить! Кому говорю!..
Я стояла, зажимая пальцем рану. Пуля задела мякоть щеки и чуть-чуть зацепила кончик носа. Кровь текла и никак не унималась, а у меня не было даже носового платка. Я просто стояла наклонившись и смотрела, как капает кровь, как расходятся по снегу ярко-красные пятна.
Наташа подошла к часовому (ей одной это разрешалось — она умела ладить с мужиками) и что-то горячо ему доказывала. Он неохотно покивал в знак согласия, и она направилась ко мне, снимая с шеи серое полотенце. Полотенца многие носили на шее — не было ни шарфов, ни платков, а лютый северный ветер леденил незащищенную шею через воротник бушлата.