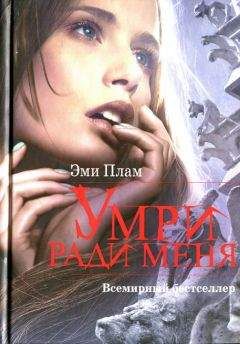Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона
У них был вид опоздавших людей.
Что все это могло значить и какое это имело отношение к слову «Искра», которое было вырезано на последней льдине, вероятно, все той же самодельной железной тросточкой одним из тех, которые что-то везли на своих салазках, закутанное в рогожу.
Лечение зуба
При слове «Флеммер» мне сразу представлялся безукоризненно белый, накрахмаленный и выглаженный халат, осанка великого ученого и могучая голова если не Бетховена, то, по крайней мере, Ибсена; не говорю уже о присутствии в воздухе неподвижного, чрезвычайно гигиенического запаха смеси креозота и гвоздичного масла, вселявшего в меня нечто вроде покорного отчаяния и сознания собственной неполноценности.
Даже отец, который в моем представлении был нравственно выше всех людей в мире, вдруг оказался в присутствии доктора Флеммера неуверенным в себе человеком с ординарной внешностью и робкими манерами.
Я сразу понял причину робости папы: он не знал, сколько стоит визит, боялся, что с него сдерут рубля три. Впрочем, для меня папа не пожалел бы никаких денег.
Как бы прочитав его мысли, доктор Флеммер, вытирая руки полотенцем, сказал с сильным немецким акцентом, что первый визит стоит два рубля, а последующие по рублю, не считая чаевых ассистентке-горничной и материалов.
Затем, онемев от ужаса, я взгромоздился на зубоврачебное кресло, прижал затылок к двум кожаным подушечкам, а Флеммер стал нажимать ногой в хорошо вычищенном штиблете на какой-то кривой рычаг с педалью, и я стал толчками подниматься вверх, видя, как вместе со мной подымается стакан с дезинфицирующей водой бледно-сиреневого цвета и особая, какая-то весьма научная плевательница, к красному стеклу которой прилип клочок мокрой гигроскопической ваты, оставшейся, по-видимому, от предыдущего пациента.
В обморочной тишине кабинета звонко тикали часы.
Я почувствовал приближение к себе вплотную накрахмаленного халата и разинул рот, куда сейчас же полез указательный палец Флеммера — слегка волосатый, безупречно вымытый сулемовым мылом, — а затем в мой рот с некоторым отвращением заглянули выпуклые голубые глаза в золотых очках, после чего я услышал брезгливый голос, сказавший моему папе, что у меня не рот, а помойная яма. Затем я уловил страшное слово, произнесенное с еще большим презрением: «дупло».
После небольшой лекции о долге каждого культурного человека заботиться о своих зубах Флеммер многозначительно напряг свой великолепный лоб и, молчаливо обдумав создавшееся положение, взвесив на самых точных весах все «за» и все «против», заявил, что больной зуб удалять не будет, а сделает все возможное, чтобы его сохранить, подвергнет тщательному исследованию, лечению и в конце концов запломбирует его платиновой пломбой.
При этих словах папа вздрогнул, но Флеммер успокоил его, сказав, что платиновая пломба будет стоить вместе с работой всего восемь рублей, то есть ненамного дороже серебряной.
Помню покрасневшие веки добрых папиных глаз и его решительное согласие на восемь рублей, в котором чувствовалась самоотверженная решимость не жалеть никаких денег, а если нужно, то даже обратиться в кассу взаимопомощи, лишь бы сохранить зуб своего мальчика.
Я заметил, что папина пористая красная шея вспотела под твердым воротничком «композиция» и он неловко его подергал, как бы желая освободиться от некоего невидимого хомута.
После этого Флеммер снова заставил меня как можно шире разинуть рот и чем-то блестящим слегка дотронулся до обнаженного нерва. Это вызвало такую адскую боль, которую можно было бы изобразить графически лишь следующим образом:
…извилистая линия раскаленно-красного цвета, начинающаяся в точке обнаженного нерва, опоясывающая челюсть, подымающаяся вверх по височной кости и вспыхивающая где-то в глубине слухового аппарата…
Я крикнул, но Флеммер не обратил на это внимания. Я был для него не человек. Покопавшись в какой-то банке на стеклянном лотке рядом с плевательницей, он положил пинцетом в дупло ватку, пропитанную острой эссенцией гвоздичного масла, и мой рот сразу наполнился горячей слюной. Флеммер велел мне ополоснуть рот гигиенической водой, и я благоговейно вынул полный стакан из тугой подставки, хлебнул из него и сплюнул в плевательницу, любуясь потеками воды и слюны, побежавшими по красному стеклу в черную дыру плевательницы.
На этом первый визит был закончен, и, заплатив Флеммеру два серебряных рубля, которые Флеммер тут же записал в особую, толстую, чрезвычайно аккуратную приходо-расходную книгу, папа дрожащими руками помог мне выбраться из кресла, опустившегося вниз.
…Когда кресло опускалось вниз, деревья за окном медленно поднимались вверх и улица меняла ракурс…
Мы отправились на электрическом трамвае по улице, утопавшей в цветущей белой акации. Я чувствовал себя как после причастия, и мне было мучительно жалко папу, заплатившего два рубля Флеммеру и полтинник горничной и взявшего на себя обязательство заплатить в дальнейшем еще гораздо большую сумму.
Как предсказал Флеммер, зуб мой болел еще ровно два часа. И я все время осторожно трогал его языком и выплевывал горячую слюну, пока наконец боль в зубе не затихла.
С этого дня началось мое почти ежедневное хождение к Флеммеру и лечение зуба, подвигавшееся не быстро, не медленно, а именно так, как полагалось по всем правилам добросовестного зубоврачебного искусства.
Не буду описывать подробности, да они и не имеют существенного значения, кроме того что это была какая-то часть моей жизни, моего тогдашнего бытия.
Замечу только, что надолго запомнилась мне шикарная улица, где практиковал Флеммер, его громадная, дорого и солидно обставленная квартира, казавшаяся мне всегда пустой, горничная-ассистентка в батистовой наколке, накрахмаленной юбке и какой-то мантии, делавшей ее отчасти похожей на монахиню.
Лечение зуба имело свои прелести.
Отправляясь к Флеммеру один, без папы, я экономил трамвайные деньги и карманную мелочь, выдаваемую мне на тот случай, если я захочу напиться на улице зельтерской воды или хлебного кваса. В конце лечения у меня составилась кругленькая сумма копеек в сорок, и я с утра до вечера размышлял, на что бы их истратить.
Не буду вспоминать сверления зуба бормашиной, один звук которой, проникая в глубь всех моих суставов, до самого мозга костей, заставлял содрогаться весь мой организм. В особенности не буду вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игла еще не коснулась обнаженного нерва, а уже все мое существо испытывало грядущую адскую боль и опять она, эта боль, как бы окрашенная в ярко-красный, огненный цвет, пронзала меня, как раскаленная проволока.
![Валентин Катаев - Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона [Рисунки Г. Калиновского]](/uploads/posts/books/210189/210189.jpg)