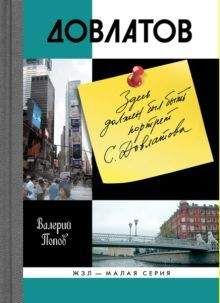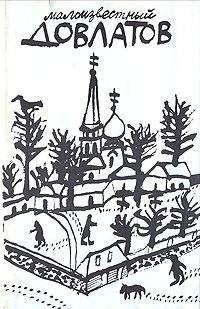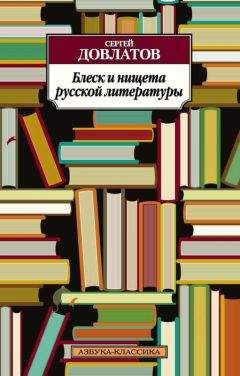Татьяна Щепкина-Куперник - "Дни моей жизни" и другие воспоминания
Помню яркое впечатление, оставшееся у меня от посещения квартиры известного артиста А. П. Ленского. Это был любимец Москвы, прекрасный актер, очень красивый человек. Я видела его в Малом театре и помнила его. Как я узнала много позже, он временно переходил в Петербург, в Александрийский театр, в результате какой-то романтической истории. Так вот, с ним в качестве домоправительницы приехала поступившая к нему от тети няня (она же — ведьма из наших игр), и моя няня пошла проведать старую знакомую, да захватила и меня. Ленского, очевидно, дома не было, и «Митина няня», как мы ее звали, повела нас показать нам его кабинет. Поразил он меня чрезвычайно: он был весь черный, обтянутый черным бархатом, дерево тоже черное, кое-где с серебром: а черные портьеры поддерживались пиками, на которых были надеты черепа. Посреди же комнаты было нечто вроде алтаря, с лампадой и цветами, и над ним — задернутая черным флером картина. Няня бесцеремонно открыла флер — под ним оказался портрет красивой брюнетки с яркими глазами: это была та самая дама, из-за разрыва с которой он бежал в Петербург… Он потом благополучно возвратился в Москву и там окончил свои дни, а дама, его «роковая змея», красивая московская мильонщица, после бурной жизни вышла за молодого человека и стала примерной женой. Я ее встречала старой дамой, властной и представительной, и не узнавала в ней той яркой красавицы с портрета.
* * *Когда мне было лет 11, за мной неожиданно приехал отец. Он давно жил в Киеве и, приезжая в Петербург, заезжал повидаться с нами. Иногда брал меня с собой — сниматься к фотографу, к каким-нибудь знакомым… У меня сохранялось впечатление от непривычного в нашей квартирке запаха хорошего табака, духов Лозе «Ландыш», душистого мыла Тридас и конфет Крафта, которые он дарил мне, причем мне доставалась небольшая коробка, а очень большую он вез кому-то в Киев. Чувство легкого смущения от того, что этот малознакомый мне господин брал меня на колени, целовал — и, несомненно, имел на меня какие-то права. Но меньше, чем мама. Я даже, когда писала ему письма и мне говорили: «Ну теперь подпишись — твоя Таня», — возражала: «Нет, я подпишусь — Мамина Таня».
Было у меня еще и впечатление, что при нем мама волнуется и не такая, как всегда. Он сидел у нас полчаса, расспрашивал, как я учусь, и всегда торопился. Что-то напевал, насвистывал и интересно рассказывал, поблескивая глазами из-под пенсне. Раз как-то он приехал и сказал маме: «Ты не отпустишь со мной Таню? Катя здесь… Ей очень хотелось бы повидать Таню». Я не знала, кто такая Катя, но видела, что мама очень вспыхнула, как-то особенно сжала губы и наотрез отказала папе: «Нет, Таню я не пущу». Он пожал плечами и не стал настаивать. Уехал, а мама очень волновалась и была сама не своя весь день.
На этот раз папа приехал какой-то странный. Он не напевал, не шутил со мной, не привез конфет. Он сел на стул, сказал маме: «Катя умерла».
И — заплакал. Он! Мужчина!.. Это было так странно и даже страшно. Я думала, что мужчины никогда не плачут. А мама обхватила папину голову и — сама заплакала. И это было странно… потому что я отлично помнила, что на эту неизвестную Катю она точно сердилась тогда…
Я ничего не понимала толком, но потом мне сказали, что у папы есть две маленькие девочки, мои сестрички, и что папа очень хочет, чтобы я с ними пожила. Хочу ли я ехать с ним? Я захотела. Я себя в доме всегда чувствовала какой-то не особенно нужной, и это ощущение, что папа хочет меня взять с собой, было ново и приятно. Конечно, страшновато было расстаться с привычной обстановкой, страшновато было ехать с этим малознакомым папой… но ведь это всего на месяц. А там новые сестрички, которым я нужна!
От поездки с папой осталось в памяти главным образом чувство ужаса, когда папа выходил на станциях и не всегда возвращался в вагон, когда поезд двигался (кажется, у него кто-то знакомый ехал в соседнем вагоне). Пока он не входил в вагон, я переживала панику, но не признавалась ему в этом.
К моим маленьким сестричкам, у которых только что умерла мать, я сразу почувствовала страстную жалость и любовь. Одна из них была беленькая, толстенькая, ленивая двухлетняя крошка, а другая — худенькая, черненькая, с огромными синими глазами — еще на руках у горбатой няни Эммы. Я была с ними очень нежна, и они с детским инстинктом отвечали мне тем же. Верно, это и заставило отца, привезя меня домой, уговорить маму попробовать наладить разбитые жизни, переехать к нему в Киев и стать матерью этим сироткам. Мама решилась на это, и вскоре мы все — мама, Аля, няня и я — переехали в Киев, в большую папину квартиру, так непохожую на нашу.
Пошли самые трудные годы моей детской жизни.
Мама с ее добротой готова была стать настоящей матерью бедным крошкам. Но разбитое никак не могло склеиться. Характер отца не дал ему осуществить благих намерений. Он быстро опять увлекся какой-то артисткой, стал пропадать из дома; мамино существование было неприглядно, самолюбие ее страдало, даже ее солнечная натура не выдерживала. Я часто видела ее заплаканной, часто скрывалась в свою комнату, заслыша сердитые ноты в голосе отца и ее повышенный голос. В доме у нас было нехорошо и неуютно. Аля жалась к маме, маленькие девочки льнули ко мне. Отец, видя, что мама страстно любит Алю, подчеркивал холодность к ней и ласковость ко мне. Я чувствовала, что эта ласковость не столько относится ко мне, сколько проявляется в пику маме, — и не радовалась ей. А мама все больше сердилась на меня, точно я была виновата в папином обращении. Я уходила в себя, становилась не по летам замкнута и угрюма: оттаивала только тогда, когда детишки ко мне ластились, особенно маленькая Ася, из жалкого заморышка ставшая очаровательным кудрявым ребенком. Зиму и лето прожили мы так, потом настала для меня самая страшная минута: мама решила окончательно уехать в Москву, но при этом я с ужасом узнала, что меня она оставляет у отца.
Я понимаю теперь, что мать моя со своей точки зрения поступала благоразумно: она знала, что отец все же любит меня, не обидит, даст мне хорошее образование… Но тогда-то мне до этих резонов мало было дела. Я продолжала любить маму страстно, не смея ей высказывать своей любви, так как видела, что она все больше от меня отходит. И для меня мысль расстаться с ней была ужасна, а еще ужаснее то, что я понимала, знала: что с Алей она не рассталась бы ни за что в мире, ни из-за чего на свете, а со мной — могла. Сначала я плакала и умоляла не оставлять меня в Киеве, взять с собой, потом, как всегда, примирилась с неизбежным. И только надолго окаменело мое сердчишко. Я себе сказала: «Меня никто не любит, и я не буду любить никого».