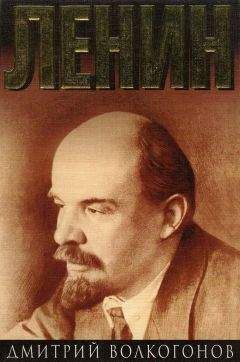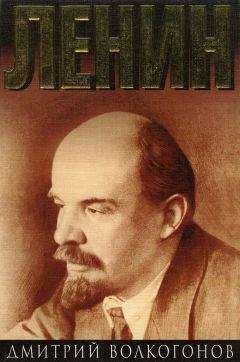Анна Тютчева - При дворе двух императоров (воспоминания и фрагменты дневников фрейлины двора Николая I и Александра II)
Ее нравственное существо представляло те же контрасты, как и физическое. Высокомерная, молчаливая и мрачная, пренебрегавшая всеми житейскими отношениями, надменная, капризная и своевольная, она умела там, где хотела нравиться, с неотразимым воодушевлением пускать в ход всю вкрадчивость своей гибкой натуры, всю игру самого тонкого, самого смелого ума, полного колкости и иронии. Это был фейерверк остроумных слов, смешных замечаний. Она была изумительно одарена, совершенно бегло, с редким совершенством, говорила на пяти или шести языках, много читала, была очень образованна и умела пользоваться всею тонкостью своего ума без малейшей тени педантизма или надуманности, жонглируя мыслями и особенно парадоксами с легкой грацией фокусника. Я никогда не слышала, чтобы она о ком-либо дурно отзывалась, но черт от этого ничего не терял: в изумительной степени владела она искусством коварства, и величайшим для нее наслаждением было уязвлять собеседника жалом своих сарказмов, не давая ему возможности защищать себя из страха попасть в смешное положение. Понятно, что ее не любили. Но в известные минуты невозможно было не подпасть под ее обаяние, как невозможно было затем не сердиться на себя за это. Во всяком случае и по своим качествам и. по своим недостаткам это была натура далеко не заурядная; в гордой и вкрадчивой пленительности ее по существу жестокой и властной натуры было что-то хищное, напоминавшее не кошку с ее мелким коварством, а скорее тигра, горделивого и царственного в своей развращенности. Вот то лицо, с которым судьба заставила меня провести много лет в вынужденной близости, в таком положении, которое делало из нас невольных соперниц и в котором почти невозможно было избежать трений, даже и в том случае, если бы с обеих сторон в отношения вносилась честность и прямота. Прошло много времени, пока я дала себе полный отчет в характере Александры Долгорукой. В моем возрасте меня легко было увлечь и подчинить, и Александра вначале употребила много усилий к тому, чтобы пленить меня. Однако я вскоре инстинктивно почувствовала во всем ее существе какую-то замкнутость, заставившую и меня быть сдержанной. Она испытывала или по крайней мере выказывала страстную привязанность к цесаревне; и не было оснований подозревать ее в неискренности. Великая княгиня взяла ее к себе, чтобы вырвать из той тяжелой обстановки, в которой она находилась в семье. Рассказывали, что она всегда была предметом ненависти со стороны своей матери[33], которая так ее била и подвергала таким лишениям, что развила в ней болезнь, похожую на падучую. Она впадала в состояние столбняка, продолжавшееся иногда целые часы. Великая княгиня, охваченная жалостью к ней и в то же время, вероятно, плененная тем обаянием, которым Александра так умела пользоваться, когда этого хотела, проявляла по отношению к своей молодой фрейлине совершенно материнскую заботливость и очень ее к себе приближала. Проведя одна около цесаревны целых шесть месяцев, Александра была очень огорчена, когда в моем лице получила товарища по службе. Она, говорят, много плакала, но тем не менее приняла меня приветливо.
Все фрейлины, которых я назвала, состояли при императрице; только княжна Долгорукая и я состояли исключительно при цесаревне, хотя мы жили в том же коридоре, как и фрейлины императрицы. Наследник занимал в Зимнем дворце помещение, непосредственно примыкавшее к покоям императрицы, с которыми оно соединялось галереей. Окна императрицы выходили на Неву, окна наследника — на Адмиралтейскую площадь; покои императора Николая находились этажом выше. Позднее, чтобы не ходить по лестнице, он устроил себе маленькое помещение из двух очень скромных комнат в нижнем этаже. Члены императорской фамилии жили, таким образом, в большой близости, что создавало интимную семейную жизнь, по крайней мере насколько дело касалось привычек ежедневной жизни.
Во время утреннего кофе, между девятью и десятью часами, вокруг императрицы собирались все — и дети и внучата, которые регулярно приходили к ней здороваться. Это не всегда было удобно, особенно для маленьких детей, которые уже учились и занятия которых прерывались потому, что они должны были идти приветствовать бабушку. Еще в Зимнем дворце приходилось только переходить через множество коридоров, зал и лестниц, но в Царском и в Петергофе императрица любила пить утренний кофе в одном из отдельных павильонов в парке, приходилось следовать туда за ней, и добрая часть утра проходила в таких прогулках, не говоря уже о развлечении, которое мешало затем детям заниматься. В частной жизни, живя в одном и том же доме, естественно детям приходить к родителям здороваться; при дворе, однако, благодаря размерам дворца и садов, благодаря торжественному церемониалу, которым сопровождаются все передвижения членов императорского дома, эти семейные собрания принимали характер событий исключительной важности. В Царском и в Петергофе по утрам можно было видеть большой запряженный фургон, нагруженный кипящим самоваром и корзинами с посудой и с булками. По данному сигналу фургон мчался во весь опор к павильону, назначенному для встречи. Ездовые с развевающимися по ветру черными плюмажами скакали на ферму, в Знаменское, в Сергиевку предупредить великих князей и великих княгинь, что императрица будет кушать кофе в Ореанде, на «мельнице», в «избе», в Монплезире, в «хижине», в «шале», на ферме, в Островском, на Озерках, на Бабьем Гоне, на Стрелке — словом, в одном из тысячи причудливых павильонов, созданных для развлечения и отдохновения императрицы баловством ее супруга, который до конца жизни не переставал относиться к ней, как к избалованному ребенку. Через несколько минут можно было наблюдать, как великие князья в форме, великие княгини в туалетах, дети в нарядных платьицах, дамы и кавалеры свиты поспешно направлялись к намеченной цели. При виде всего этого церемониала по поводу простого питья кофе я часто вспоминала анекдот про пастуха, который на вопрос, что бы он стал делать, если бы был королем, отвечал: «Я бы стал пасти своих овец верхом».
Великие мира сего все более или менее выполняют программу пастуха, они пасут свои стада верхом, и если они редко совершают великие дела, зато превращают житейские мелочи в очень важные дела. Громадное значение и грандиозные размеры, которые принимают для них самые простые события в жизни, как обеды, прогулки или семейные встречи, требуют столько времени, столько внимания и сил, что их уже не хватает на более серьезные предметы. Жизнь государей, наших по крайней мере, так строго распределена, они до такой степени ограничены рамками не только своих официальных обязанностей, но и условных развлечений и забот о здоровье, они до такой степени являются рабами своих привычек, что неизбежно должны потерять всякую непосредственность. Все непредусмотренное, а следовательно, и всякое живое и животворящее впечатление навсегда вычеркнуто из их жизни. Никогда не имеют они возможности с увлечением погрузиться в чтение, беседу или размышление. Часы бьют, — им надо быть на параде, в совете, на прогулке, в театре, на приеме и завести кукольную пружину данного часа, не считаясь с тем, что у них на уме или на сердце. Они, как в футляре, замкнуты в собственном существовании, созданном их ролью колес в огромной машине. Чтобы сопротивляться ходу этой машины, нужна инициатива гения. Ум, даже хорошо одаренный, характер, но без энергии Петра Великого или Екатерины II никогда не справится с создавшимся положением. Отсюда происходит то, что, как государи, они более посредственны, чем были бы в качестве простых смертных. Они не родятся посредственностями, они становятся посредственностями силою вещей. Если это не оправдывает их, это по крайней мере объясняет их несостоятельность. Они редко делают то добро, которое, казалось, было бы им так доступно, и редко устраняют зло, которое им так легко было бы уврачевать, не вследствие неспособности, а вследствие недостатка кругозора. Масса мелких интересов до такой степени заслоняет их взор, что совершенно закрывает от них широкие горизонты.