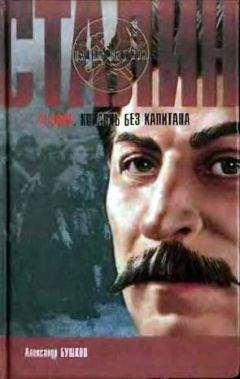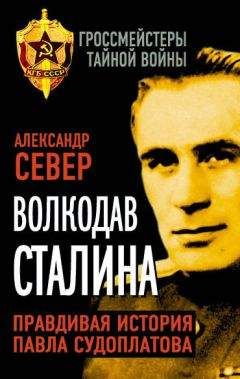Афанасий Фет - Воспоминания
— Вам, батюшка барин, скоро надо учиться, schprechen sie deutsch, пойдете в полк да станете генералом, как Алексей Петрович, и стыдно будет без науки.
Это не мешало Илье Афанасьевичу весною из сочной коры ветлы делать для меня превосходные дудки, что давало мне возможность, конечно, в отсутствие отца бить в подаренный крестным отцом барабан, продолжая в то же время дуть в громогласную дудку.
Не могу сказать, при каких обстоятельствах мы переехали в Новоселки, но хорошо помню, что сестра Анюта заболела, и меня к ней на антресоли в детскую не допускали. Тем не. менее через Елизавету Николаевну и горничных я знал обо всем, что происходило наверху: как ежедневно приезжал туда доктор, как поставил за уши ребенку двенадцать пиявок и положил на голову пузырь со льдом. Мать не отходила от кровати ребенка, и наконец положение больной стало до того безнадежно, что на меня уже не обращали никакого внимания, и я упросил Елизавету Николаевну дозволить мне взглянуть на сестру. Та пустила меня наверх, запретивши говорить что-либо. Помнится, кто-то сказал: «Умирает». Не зная собственно, что это такое, я неслышной стопой подошел к кроватке, на которой лежала Анюта. Яркий румянец играл на ее детском лице, и большие голубые глаза неподвижно смотрели в потолок.
— Анюта, — сказал я, забывая запрещение.
Голубые глаза склонились ко мне с несомненною улыбкою, но остальное лицо оставалось неподвижно. Это было последним нашим свиданием. К вечеру того же дня девочка умерла, и мощный отец, хотя и ожидавший этого конца, упал в обморок.
В начале зимы того же года я снова помню себя во Мценске; но не на прежней квартире, а в зале какого-то купеческого дома. Помню, что на этот раз нас с матерью сопровождал не Илья Афанасьевич, а старый, еще дедовский слуга Филипп Агафонович, с которым впоследствии мне суждено было тесно сблизиться, так как он в продолжение нескольких лет был моим дядькой. Помню, что около меня часто повторялась слова: «царские похороны», но помню, что долго, и впоследствии слово «похороны» связывалось в моем воображении с чем-то, начинающимся со звука пох, вроде немецкого pochen — бухать.
Вечером во Мценске меня к матери посадили в заскрипевший по снегу возок, а затем Филипп Агафонович, держа меня на плече, тискался в соборе сквозь густую толпу народа. Помню, как хромой, знакомый нам, городничий крикнул Филиппу Агафоновичу. «Вот ты старый человек, а дурак! ребенка на такую тесноту несешь». Помню, как тот же Филипп Агафонович вынес меня обратно на паперть и сказал; «Постойте, батюшка, минуточку; я только мамашу…».
Оставшись один и увидав вокруг собора у ярких костров греющихся на морозе солдатиков, причем составленные в козлы ружья красиво сверкали, я сам захотел быть солдатом и прошел с паперти к ним.
— Ах, отцы мои небесные! — раздался надо мною голос Филиппа Агафоновича, — пожалуйте в возок, домой, домой!
На другое утро мама сидела под окошком и, глядя на проходящие толпы, утирала слезы платком. Не помню последовательности погребальной процессии, но я уже знал, что вскорости повезут тело государя Александра Павловича.
— А вот и папа, — сказала матушка.
И действительно, отец шел в своем мундире, при сабле и с красной уланской шапкой на голове. Затем последовали сани с устроенным на них катафалком под балдахином. Катафалк везли веревками многочисленные мценские обыватели; провели и траурного коня[59].
Помню себя снова на Новоселках, и с тех пор воспоминания мои проясняются до непрерывности.
Для большей наглядности домашней жизни, о которой придется говорить, дозволю себе сказать несколько слов о родном гнезде Новоселках. Когда по смерти деда Неофита Петровича отцу по разделу достались: лесное в 7 верстах от Мценска Козюлькино, Новосильское, пустынное Скворчее и не менее пустынный Ливенский Тим, — отец выбрал Козюлькино своим местопребыванием и, расчистив значительную лесную площадь на склоняющемся к реке Зуше возвышении, заложил будущую усадьбу, переименовав Козюлькино в Новоселки.
Замечательна общая тогдашним основателям усадеб склонность строиться на местностях, искусственно выровненных посредством насыпи. Замечательно это тем более, что, невзирая на крепостное право, работы эти постоянно производились наемными хохлами, как теперь производятся большею частию юхновцами[60]. На такой насыпи была построена и Новосельская усадьба, состоявшая первоначально из двух деревянных флигелей с, мезонинами. Флигели стояли на противоположных концах первоначального плана с несколько выдающимся правым и левым боками. Правый флигель предназначался для кухни, левый для временного жилища владельца, так как между этими постройками предполагался большой дом. Стесненные обстоятельства помешали осуществлению барской затеи, и только впоследствии умножение семейства принудило отца на месте предполагаемого дома выстроить небольшой одноэтажный флигель.
До того времени пришлось всем нам довольствоваться левым флигелем, получившим у нас название дома, а у прислуги хором. Что эти хоромы были невелики, можно судить по тому, что в нижнем этаже было всего две голландских печки, а в антресолях одна. Поднявшись умственно по ступеням широкого каменного под деревянным навесом крыльца, вступаешь в просторные сени, в которых была подъемная крышка над лестницею в подвал. Налево из этих теплых сеней дверь вела в лакейскую, в которой за перегородкой с балюстрадой помещался буфет, а с правой стороны вдоль стены поднималась лестница в антресоли. Из передней дверь вела в угольную такого же размера комнату в два окна, служившую столовой, аз которой дверь направо вела в такого же размера угольную комнату противоположного фасада. Эта комната служила гостиной. Из нее дверь шла в комнату, получившую со временем название классной. Последней комнатой по этому фасаду был кабинет отца, откуда небольшая дверь снова выходила в сени. Нужно прибавить, что в отцовском кабинете аршина три в глухой стене были отгорожены для гардероба. Весь мезонин состоял из одного 10-ти аршинного сруба, разгороженного крестообразно на четыре комнаты, две поменьше и две побольше. Меньшие были девичьими, а из двух больших одна была спального матери, а другая детской, выпустившей из своих стен, кроме умерших, пять человек детей[61].
Так как моя Елизавета Николаевна всею душой предана была насущным интересам многочисленных горничных, то и я, в свою очередь, не знал ничего отраднее обеих девичьих. Эти две небольших комнаты не отличались сложностью устройства, зато как богаты были содержанием! Вместо стульев в первой и во второй девичьей, с дверью и лестницей на чердак, вдоль стен стояли деревянные с висячими замками сундуки, которые мама иногда открывала к величайшему моему любопытству и сочувствию. Выдавая повару надлежащее количество сахарного горошка, корицы, гвоздики и кардамона, она иногда клала мне в руку пару миндалинок или изюминок. Изюм и чернослив не входили в разряд запретных сахарных и медовых сладостей.