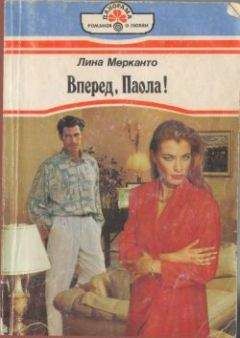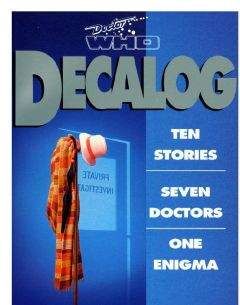Тарковские. Отец и сын в зеркале судьбы - Педиконе Паола
Я общался с Мандельштамом довольно часто на протяжении нескольких лет и не замечал, что он читал стихи чужим. Когда прочел это стихотворение Тарковского, спросил у Надежды Яковлевны, так ли это. «Нет, не читал чужим», – подтвердила она. Но какое это имеет значение, если в одной строке выражен весь характер необыкновенного и гонимого поэта.
Арсений Тарковский рассказывал, как однажды Мандельштам читал ему только что написанное стихотворение, начинающееся так:
– Вы, вероятно, ошиблись, – робко заметил Арсений. – Не Франсуа, а Антуан – так рифма точнее.
Мандельштам повернулся, презрительно покосился на Тарковского и патетически воздел руки к небу:
– Боже мой, у него совсем нет слуха! [9]
Надежда Яковлевна Мандельштам вспоминает о случае, когда к мужу пришли два молодых поэта и в разговоре пожаловались, что их не печатают. Мандельштам, рассердившись на эти жалобы, «спустил их с лестницы», бросив вслед сакраментальное: «А Христа печатали?» По одной из версий, этими молодыми поэтами были Арсений Тарковский и Аркадий Штейнберг.
Семен Липкин, впрочем, утверждает, что Тарковский встречался с Мандельштамом только один раз в жизни, в 1928 году.
Стоит привести и фрагмент из воспоминаний Инны Лиснянской, которой, по ее словам, Тарковский признался, что Мандельштама «видел всего однажды, в полуподвальной квартире у Рюрика Ивнева. Мы пришли вместе с Кадиком Штейнбергом. Помню, там был и Мариенгоф. Я боготворил Осипа Эмильевича, но и, стыдясь, все-таки отважился прочесть свои стихи. Как же он меня раздраконил, вообразил, что я ему подражаю». Липкин добавляет к этому, что, выслушав стихи Тарковского, Мандельштам ему сказал: «Давайте разделим землю на две части: в одной будете вы, в другой останусь я».
И еще у Липкина – о Мандельштаме и Тарковском:
Правы ли были Мандельштам и Ахматова, утверждавшая, что Тарковский в молодости был «до ужаса задавлен Осипом»? Честно говоря, сомневаюсь. Да, несколько юношеских стихотворений отмечены «мандельштампом» (насмешливый термин тех лет), например:
Да, влияние Мандельштама слышно отчетливо, но это не рабское эпигонство. Штейнберг объяснял резкость отзыва великого поэта тем, что в многогрешной квартире имажиниста Ивнева собралось тогда много красивых юношей, а Тарковский был сказочно красив, и Мандельштам рассердился, заподозрив дурное. Возможная вещь. Но надо сказать, что Тарковский, в зрелые годы во многом разочаровавшийся в своих богах XX века – в Сологубе (которому прочел свои стихи), в Блоке, в Пастернаке, навсегда остался верен Мандельштаму.
Отблеск серебряного века
Ленинград. 1926
Арсения Тарковского в некрологах и надгробных речах не раз назвали последним поэтом Серебряного века. Это и верно, и неверно. Верно – потому что в Тарковском светилось зарево Андрея Белого и Сологуба, Гумилева и Ахматовой, Ходасевича и Мандельштама, и блоковская фраза «слово поэта – его дело» была его каждодневной молитвой. Неверно – потому что зеркало Серебряного века разбилось давным-давно, от знаменитого выстрела «Авроры». Треснула резная рама орехового дерева с перламутровыми интарсиями, хрустнуло стекло, осыпалась старинная амальгама, и стеклянные осколки разлетелись по всей России… Вероятно, один из них попал в сердце юного Арсения Тарковского.
Вот почему, оказавшись в декабре 1926-го в Ленинграде, он осмелился позвонить Федору Сологубу и поблагодарить за чудесные стихи. Некогда имя Сологуба гремело на всю Россию; его слава была не меньшей, чем слава Блока и Северянина. Публика млела от его завораживающе-музыкальных строк.
Или:
Но настали новые времена (Первая мировая, революция, Гражданская война, разруха, нэп), когда в моду вошла иная «громковещательная» поэзия, на фоне которой творения Сологуба казались замшело-старомодными. К поэту, так сказать, заросла народная тропа. Страдая от одиночества, он очень обрадовался звонку Тарковского с просьбой принять его.
В назначенный день Арсений пришел к старому поэту и от робости долго-долго молчал в темной прихожей, пока хозяин не спросил:
– Ну-с, молодой человек, с кем имею честь молчать?
Их разговор продлился до позднего вечера. Сначала Сологуб читал свои стихи, затем Тарковский рискнул показать мэтру свои поэтические опыты. Юношеские вирши Тарковского маститому поэту не понравились, и он прямо сказал гостю, что это очень плохие стихи. Впрочем, отметил несколько удачных строк и наказал не отчаиваться. Традиционный ответ, не сулящий сочинителю ни плохого, ни хорошего.
Смущенный Арсений каждые 15 минут порывался уйти, но Федор Кузьмич продержал его у себя с 12 часов дня почти до развода мостов и на прощание подарил свою книгу «Небо голубое».
Провожая юношу, Сологуб подал ему пальто; Тарковский застеснялся, на что мэтр остроумно заметил:
– Ничего-ничего, не стесняйтесь, я ведь делаю это не из подхалимства. [10]
Вопреки общему мнению, Сологуб показался Арсению добрым и сердечным человеком. Впрочем, еще Блок дал замечательное определение русского поэта:
Прощание с Прекрасной Дамой
Ленинград. 1939
В другой раз Тарковский попал в город на Неве в августе 1939 года, чтобы получить гонорар за переводы в ленинградском отделении Детгиза. Прямо с вокзала он явился в издательство и услышал, что деньги в кассе будут только на следующий день. Арсений поехал в гостиницу «Европейская», снял номер, принял горячую ванну и «провалился».
Очнулся он в Боткинской больнице, в холерных бараках. Страшная дифтерия. Запомнилось, что на соседней койке лежал композитор Дмитрий Шостакович.
Болезнь бы ла тяжелой и затяжной. Когда Тарковского в конце сентября наконец выписали – бледного и качающегося от слабости, – он вновь направился за гонораром. В издательстве любезно сообщили, что денег по-прежнему нет, и неизвестно, когда будут. Объяснили это тем, что немцы вступили в Польшу, Англия и Франция объявили войну Германии. Началась Вторая мировая. Правда, сердобольный бухгалтер издательства пообещал Тарковскому ежедневно выдавать на еду 25 рублей и платить за гостиницу все то время, пока он ждет гонорара.