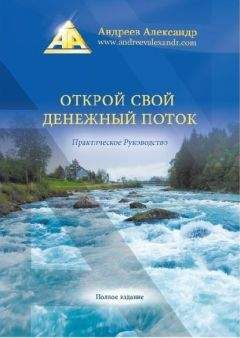Вадим Андреев - История одного путешествия
После того, как основные работы по укреплению острова были закончены и рабочих организации Тодта переправили на континент, на олеронских крестьян обрушились новые требования оккупационных властей: началась реквизиция рабочих рук. Еженедельно мэрии олеронских деревень и городков должны были поставлять сотни человек в распоряжение немецких фельдфебелей, руководивших работами. Сначала мне удалось избавиться от этих реквизиций: я убедил мэра Сен-Дени, что распоряжение касается только французских граждан и что меня, русского, следует оставить в покое. Мэр был настолько наивен, что согласился с моими доводами. Однако, когда излишне уступчивый мэр был заменен известным в деревне сторонником маршала Петэна, мои доводы показались ему недостаточно убедительными и мне пришлось подчиниться общим требованиям.
В тот день, в конце 1943 года, группу «реквизированных» в Сен-Дени — нас было человек пятнадцать — отправили на батарею «Квале». Батарея была расположена на диком, то есть обращенном в открытый океан, берегу острова, километрах в трех от Сен-Дени. «Реквизированных» крестьян на батарею не пускали, заставляя работать на подступах — либо втыкать среди виноградников острые колья, на которые должны были попасть будущие парашютисты, либо рыть противотанковые рвы. В тот день начальнику батареи лейтенанту Кунцу пришла замечательная мысль — он решил воткнуть колья не только на полях и в песчаных дюнах, но и на дне моря, открывавшемся при отливе. Так как колья — четырехметровые бревна с заостренными концами — были деревянные, то они, конечно, всплыли при первом же приливе. Лишь один кол продержался два дня, но и его в конце концов снесло прибоем.
Бессмысленность работы была очевидна всем, а то, что при втыкании кольев сложенные из плоских камней стены запруд, служивших для рыбной ловли, разрушались, не увеличивало хорошего настроения крестьян: все знали, какой гигантский труд представляет собой кладка каменных стен на дне моря. Инциденты между крестьянами и фельдфебелем, руководившим работами, возникали на каждом шагу: крестьяне старались всадить колья между камнями обнаженного отливом дна, фельдфебель же требовал, чтобы их укрепляли именно в стенах запруд, что ему казалось красивее: правильные полукружия деревянного частокола стали бы неприступным барьером для высаживающихся войск. Мой друг Жак Фуко — никто не умел так ловко дочинить уже, казалось бы, совершенно развалившийся велосипед, как он, — сцепился с фельдфебелем с такой горячностью, что мне, несмотря на то, что я по возможности скрывал знание немецкого языка, пришлось вмешаться: еще минута — и Жак был бы арестован. Услышав немецкую речь в устах французского крестьянина, фельдфебель оставил в покое Жака и свое внимание сосредоточил на мне. Мои объяснения о полной бессмысленности производимой нами работы не произвели на него никакого впечатления, его больше заинтересовало то, что я говорю по-немецки. Не зная, как избавиться от фельдфебеля, я сказал, что немецкий язык я помню не так уж хорошо. Знал в детстве, а теперь…
— Вы что, из Эльзас-Лотарингии?
— Я русский. У нас в школах немецкий язык был обязательным.
— Русский! А вы знаете, что у нас на батарее работают русские военнопленные? Вон там стоит парень, он русский.
Фельдфебель помахал рукой, и парень, взяв наперевес лом, которым он выдалбливал, без всякого, впрочем, успеха, дыру в плоской скале, подошел к нам. Это был молодой человек лет девятнадцати. Смуглое лицо, насупленные брови, темные глаза, смотрящие мимо, немецкая шинель явно не по росту подпоясана ремешком. Я спросил его:
— Скажите, как это случилось, что вы надели немецкую шинель?
Если бы между водорослями начали расти сосны, он удивился бы меньше. Атлантический океан, грохот начавшегося прилива, немецкая батарея, французский крестьянин в потертом берете — и вдруг русская речь и такой вопрос…
Паренек молчал довольно долго, было видно, что он не находил нужных слов.
— Шинель… Это долго рассказывать… Если бы я мог поговорить с вами… Только по здесь. Нельзя ли прийти к вам домой?
Теперь уже молчал я. Как-никак на нем была немецкая шинель, и кто его знает, почему он ее надел. Немецкие солдаты в наш олеронский дом не ходили, разве что с обыском. Вместе с тем меня охватило какое-то странное чувство, — нет, не любопытства, но ничем не объяснимого доверия к стоящему передо мной русскому человеку. Я объяснил пареньку, в каком доме в Сен-Дени живет моя семья[4].
— По воскресеньям нам позволяют выходить с батареи. Я приду к вам с товарищем. — И, помолчав, повторил: — Мне очень надо поговорить с вами.
Они пришли вдвоем — два Володи, Антоненко и Орлов, — два замечательных русских мальчика: старшему, Антоненко, не было и двадцати лет. Но как они были не похожи друг на друга! Володя Орлов, — я его прозвал «паренек с гармошкой», хотя никогда никакого музыкального инструмента в руках у него не видел, — был высок, строен, полон брызжущей жизнерадостностью. Он был удивительно прозрачен и ясен, — достаточно было поглядеть в его зеленые глаза, чтобы увидеть, что у него не может быть никакой плохой мысли, что он весь как на ладони. Володя Антоненко, с которым я познакомился на батарее, смуглый, темноглазый, сосредоточенный, обуреваемый затаенной волею к действию, был выжидающе молчалив. Оба они не были военнопленными в полном смысле этого слова: по молодости лет их не успели призвать в Красную Армию. Попросту немцы их насильно угнали в Германию «на работы». Прежде чем попасть на Олерон, они прошли через немецкие лагеря, испытали голод, уничтожающий тех, кто не только физически, по и морально недостаточно силен, сидели в бараках за колючей проволокой, вокруг которых складывали в штабеля трупы умерших за ночь.
А немецкая шинель — ее бросали на человека, от лишений потерявшего человеческий образ и бывшего не в состоянии думать о том, какого цвета сукно, серого или зеленоватого. Сколько раз впоследствии я слышал рассказ о немецкой шинели, наброшенной на умирающего: если придет в сознание и выживет, будет поздно — шинель уже на нем.
Для обоих Володей большая русская семья, в которую они попали, показалась чудом. Мой семилетний сын описал эту встречу так:
«Мы сидели с Алешей (Сосинским) на заборе и смотрела в забор. К нам подошли два нерешительных солдата и спросили по-русски:
— Здесь живет Андреев?
— Сбегай за папой, он на картофельном поле, — сказала мама.
— Заходите, — прибавила бабушка».
После двухлетних мытарств в Германии им (все показалось невероятным — и то, что все говорят по-русски (особенно малыши), и что много женщин, что их угощают яблоками и кукурузными лепешками, и, конечно, то, что их приняли как своих.