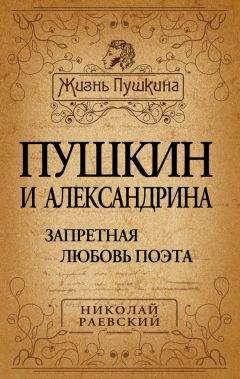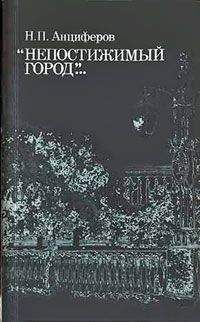Николай Раевский - Раевский Николай Алексеевич. Портреты заговорили
IV
Об отношениях супругов Пушкиных в преддуэльные месяцы мы знаем очень немного. Думаю поэтому, что будет небезынтересно привести здесь запись моего разговора с покойной княгиней Антониной Михайловной Долгоруковой, женой бывшего члена Государственной думы Петра Дмитриевича Долгорукова, запись, сделанную в Праге через несколько часов после нашей беседы. С А. М. Долгоруковой я был знаком почти двадцать лет и знал ее благоговейное отношение к памяти Пушкина. Она, несомненно, ничего не выдумала. Вот текст записи, оригинал которой хранится в рукописном отделе Пушкинского дома. "31 мая 1944 княгиня Антонина Михайловна Долгорукова сообщила мне, Николаю Алексеевичу Раевскому, что в 1908 году в Москве к ней явился внук П. В. Нащокина, тогда еще молодой человек, и предложил ей купить пачку писем Пушкина к его деду {В 1917 году известные письма Пушкина к его другу Павлу Воиновичу Нащокину принадлежали графу С. Д. Шереметеву.}. Княгиня Долгорукова видела письма, но не прочла их. Из чувства щепетильности не хотела покупать чужой интимной переписки. По словам внука Нащокина: 1. Александра Николаевна Гончарова сыграла большую роль в семейных неурядицах поэта. 2. Она была в связи с Пушкиным. 3. Наталья Николаевна знала о связи, и у нее не раз происходили бурные сцены с мужем. С Пушкиным при этом случались истерики и он плакал. 4. Александра Николаевна будто бы открывала глаза поэту на отношения Натальи Николаевны с Дантесом. 5. Когда Пушкин умирал, у Александры Николаевны происходили якобы резкие столкновения с сестрой. Она почти не подпускала ее к мужу, сама ухаживала за ним и вообще держала себя хозяйкой (все до сих пор известные материалы говорят обратное.-- Н. Р.). Княгиня А. М. Долгорукова оставляет рассказ всецело на ответственности внука Нащокина, но уверена в том, что суть его передана правильно.
Н. Раевский".
Пункт пятый записи, несомненно, неверен в отношении ухода за раненым Пушкиным. Зато Александра Николаевна, надо думать, действительно всем распоряжалась, так как жена поэта была в состоянии, близком к безумию. Все остальное содержание рассказа очень похоже на правду. Сведения, сообщенные внуком Павла Воиновича, являлись семейным преданием. В 1908 году оно, надо заметить, было очень свежим, так как вдова Нащокина, Вера Александровна, хорошо знакомая с Пушкиным в течение последних лет его жизни, скончалась всего лишь восемью годами раньше -- в 1900 году. Недавно М. Яшин подверг подробной критике вопрос о взаимоотношениях Пушкина и Александры Николаевны {М. Яшин. Пушкин и Гончаровы.-- "Звезда", 1964, No 8, с. 184--189.}. Он старается доказать, что все свидетельства современников по данному вопросу не заслуживают доверия. Думаю, однако, что это не так. Рассказ внука Нащокина показывает, что и ближайший друг поэта, возможно, знал о последнем увлечении Пушкина. Надо, однако, заметить, что об этом потомок П. В. Нащокина в 1908 году мог узнать из воспоминаний А. П. Араповой, -- соответствующая глава была опубликована в иллюстрированных приложениях к газете "Новое время", 1907, No 11413, 19 декабря {На это обстоятельство обратила мое внимание Т. Г. Цявловская.}. Приходится поэтому ко всему рассказу внука Нащокина отнестись с большой осторожностью. Несомненным остается лишь тот факт, что он предложил А. М. Долгоруковой купить письма Пушкина, которые он ей показал*. Путем переписки с ныне здравствующими потомками П. В. Нащокина, живущими в Советском Союзе, я попытался выяснить, кто именно из внуков Павла Воиновича мог посетить А. М. Долгорукову в 1908 году. У Нащокина было два сына -- старший Александр и младший Андрей. Взрослого сына у Андрея Павловича в 1908 году не было. С наибольшей вероятностью можно предположить, что у Долгоруковой побывал один из многочисленных сыновей Александра Павловича, человек, который пользовался хорошей репутацией, но зачастую нуждался в деньгах. Намечается и довольно правдоподобный путь, которым к нему могли попасть письма поэта. Уточнять эти сведения в печати по ряду причин является преждевременным. Вернемся теперь к записи Фикельмон. Текст пасквильного диплома, вероятно, остался ей неизвестен, но о его получении она, надо думать, узнала. Один из экземпляров пасквиля (в запечатанном конверте, адресованном Пушкину и вложенном в другой с адресом получателя) был прислан и Елизавете Михайловне Хитрово. Ничего не подозревая, она переслала диплом поэту. Другие его друзья были осторожнее -- вскрыли конверты с пасквилем и уничтожили его. Однако граф В. А. Соллогуб, которому такой конверт передала его тетка А. И. Васильчикова, решил, что он, быть может, имеет какое-то отношение к его несостоявшейся дуэли с Пушкиным. Поэтому Соллогуб не счел себя вправе вскрыть конверт и также отвез его к поэту. По словам Соллогуба, Пушкин распечатал конверт и тотчас сказал: "Я уже знаю, что такое; я такое письмо получил сегодня же от Елизаветы Михайловны Хитрово: это мерзость против жены моей. Впрочем, понимаете, что безымянным письмам я обижаться не могу. Если кто-нибудь сзади плюнет на мое платье, так это дело моего камердинера вычистить платье, а не мое. Жена моя -- ангел, никакое подозрение коснуться ее не может. Послушайте, что я по сему предмету пишу г-же Хитрово. Тут он прочитал мне письмо, вполне сообразное с его словами <...>" {В. А. Соллогуб. Воспоминания. М.--Л., "Academia", 1931, с. 358.}. Соллогуб обладал отличной памятью. Вероятно, и слова Пушкина он передал достаточно точно. Письмо поэта до нас не дошло. Зато сохранилось ответное письмо Е. М. Хитрово к Пушкину, которое совсем недавно опубликовала Т. Г. Цявловская {Т. Г. Цявловская. Неизвестное письмо Е. М. Хитрово Пушкину.-- "Пушкинский праздник" (специальный выпуск "Литературной газеты" и "Литературной России"), 1970, 3--10 июля, с. 12--13.}. Елизавета Михайловна, умная женщина, верный друг поэта, отозвалась на его письмо с сообщением о пасквиле совершенно неожиданным образом: "Нет, дорогой друг мой, для меня это настоящий позор -- уверяю вас, что я вся в слезах,-- мне казалось, что я достаточно сделала добра в жизни, чтобы не быть впутанной в столь ужасную клевету! -- На коленях прошу вас не говорить никому об этом глупом происшествии". Е. М. Хитрово вообразила, что на Наталью Николаевну "напали лишь для того, чтобы заставить меня сыграть роль посредника и этим ранить в самое сердце". Т. Г. Цявловская справедливо прибавляет, что эгоцентризм Хитрово производит тяжелое впечатление. Действительно, Елизавета Михайловна совершенно не думает о переживаниях Пушкина. Думает только о себе. Но вряд ли можно сомневаться в том, что, обидевшись и разволновавшись, она сейчас же рассказала об этом происшествии дочери. Вероятно, дала ей прочесть письмо Пушкина, может быть, и свое... Трудно поэтому понять, почему в своей "исторической записке" графиня Долли говорит не о дипломе, а о том, что "чья-то гнусная рука направила мужу анонимные письма, оскорбительные и ужасные, в которых ему сообщались все дурные слухи и имена его жены и Дантеса были соединены с самой едкой, самой жестокой иронией". Возможно, что наряду с дипломом Пушкин действительно получал такие письма, и Дарье Федоровне стало известно их содержание, но в пасквиле, кроме намека на супружескую измену Пушкиной, никаких подробностей нет. Имена Натальи Николаевны и Дантеса не упоминаются в нем вовсе. Приходится снова повторить, что дуэльную историю графиня Долли, к сожалению, излагает очень неоткровенно и местами, кажется, сознательно искажает ее ход. Вряд ли, например, она могла не знать, что Пушкин, получив пасквиль, не "написал Дантесу, требуя от него объяснений по поводу его оскорбительного поведения", а без всяких объяснений в тот же день вызвал кавалергарда на дуэль. Несравненно интереснее непосредственные наблюдения и оценки Дарьи Федоровны. В ее глазах дуэльная история -- чисто семейная драма Пушкина, которая, однако, получила большое общественное значение благодаря огромной популярности поэта. О враждебном отношении к нему значительной части высшего общества, которое она порой жестоко критиковала в своих дневниках, Фикельмон предпочла умолчать. Поведение Дантеса она резко порицает, но в то же время утверждает, что в глазах большого света оно "было верным доказательством невинности г-жи Пушкиной". Надо сказать, что к этому соображению графини Долли приходится отнестись со всей серьезностью. Осенью 1836 года Дантес действительно вел себя скорее как потерявший голову влюбленный, а не как осторожный любовник. Жена Пушкина, по-видимому, повинна лишь в духовной измене мужу, но она своего супружеского долга не нарушила, несмотря на страстное увлечение Дантесом... Однако -- и это лишний раз свидетельствует о проницательном уме графини -- Фикельмон утверждает, что для Пушкина было важно не мнение высшего общества, а то, что "десяток других петербургских кругов, гораздо более значительных в его глазах, потому что там были его друзья, его сотрудники и, наконец, его читатели, считали ее виновной и бросали в нее каменья". Дарья Федоровна лишь кратко упоминает о том, что неожиданное сватовство Дантеса, внезапно сделавшего предложение Екатерине Николаевне Гончаровой, чрезвычайно удивило светское общество. О причине, побудившей барона Жоржа жениться на сестре Пушкиной, она не говорит ничего. Густав Фризенгоф в письме племяннице сообщает со слов Александры Николаевны: "Молодой Геккерн принялся тогда притворно ухаживать за своей будущей женой, вашей теткой Катериной; он хотел сделать из нее ширму, за которой старался достигнуть своих целей. Он ухаживал за обеими сестрами сразу. Но то, что для него было игрою, превратилось у вашей тетки в серьезное чувство". По словам Фризенгофа, Пушкин в конце концов заявил Дантесу: либо тот женится на Катерине, либо будут драться. Рассказ Фризенгофа о притворном ухаживании Дантеса очень правдоподобен, но относительно угрозы поэта этого сказать нельзя: считать Дантеса трусом нет оснований, а подобная угроза неминуемо привела бы к поединку. Женился он, во всяком случае, не из страха перед пистолетом Пушкина. Что же в действительности заставило его пойти на этот шаг? Пока мы этого не знаем, женитьба Дантеса -- одно из загадочных глав дуэльной истории. Неясно, каковы были отношения Екатерины Николаевны и Дантеса до свадьбы. По словам Густава Фризенгофа, он "притворно ухаживал за своей будущей женой". В русском письме Е. И. Загряжской к В. А. Жуковскому, посланном сейчас же после того, как "жених и почтенный его батюшка были у меня с предложением", говорится также: "К большому счастью, за четверть часа перед ними приехал старший Гончаров {Дмитрий Николаевич (1808--1860).}, и он объявил им родительское согласие, и так все концы в воду" {Щеголев, с. 315 (курсив мой.-- Н. Р.).}. Очень интимное и совершенно личное дело, насколько теперь известно, приобрело широкую огласку в петербургском высшем обществе и настоятельно требовало быстрого решения. Графиня София Александровна Бобринская*, прекрасно осведомленная в делах светского Петербурга, писала, например, своему мужу 25 ноября 1836 года: "Никогда еще с тех пор, как стоит свет, не подымалось такого шума, от которого содрогается воздух во всех петербургских гостиных. Геккерн-Дантес женится! Вот событие, которое поглощает всех и будоражит стоустную молву. Да, он женится, и мадам де Севинье {Де Севинье (1626--1696) -- французская писательница, прославившаяся своими письмами, главным образом к дочери, многократно переиздававшимися.} обрушила бы на него целый поток эпитетов, каким она удостоила некогда громкой памяти [Лемюзо]! Да, это решенный брак сегодня, какой навряд ли состоится завтра. Он женится на старшей Гончаровой, некрасивой, черной и бедной сестре белолицей, поэтичной красавицы, жены Пушкина. Если ты будешь меня расспрашивать, я тебе отвечу, что ничем другим я вот уже целую неделю не занимаюсь, и чем больше мне рассказывают об этой непостижимой истории, тем меньше я что-либо в ней понимаю. Это какая-то тайна любви, героического самопожертвования, это Жюль Жанен, это Бальзак, это Виктор Гюго. Это литература наших дней. Это возвышенно и смехотворно... Под сенью мансарды Зимнего дворца тетушка плачет, делая приготовления к свадьбе. Среди глубокого траура по Карлу X видно одно лишь белое платье, и это непорочное одеяние невесты кажется обманом! Во всяком случае, ее вуаль прячет слезы, которых хватило бы, чтобы заполнить Балтийское море. Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни" {Н. Б. Востокова. Пушкин по архиву Бобринских.-- "Прометей", т. 10. М., 1974, с. 266--268.}. Как известно, наблюдая взаимное увлечение Натальи Николаевны и Дантеса, многие их знакомые и даже ближайшие друзья поэта склонны были видеть в происходящем лишь занимательную главу в великосветской хронике. А некоторые, например София Николаевна Карамзина, находили в этом материал для изощренного зубоскальства. До сих пор считалось, что одна лишь графиня Долли Фикельмон воспринимала все происходящее как нарастающую драму. Того же взгляда придерживался и я. Сейчас приходится признать, что внимательная наблюдательница Фикельмон в своем прогнозе не была одинокой. Об этом же с полной определенностью говорит София Александровна Бобринская: "Перед нами разыгрывается драма, и это так грустно, что заставляет умолкнуть сплетни". Приходится признать, что в среде близких знакомых и друзей семьи Пушкина эта странная женитьба вызвала не только недоумение, но и настороженность. Вот что писала по этому поводу сестра Пушкина Ольга Сергеевна Павлищева: "...По словам Пашковой, которая пишет отцу, эта новость удивляет весь город и пригород не потому, что один из самых красивых кавалергардов и один из наиболее модных мужчин, имеющий 70 000 рублей ренты, женится на мадемуазель Гончаровой,-- она для этого достаточно красива и достаточно хорошо воспитана,-- но потому, что его страсть к Наташе не была ни для кого тайной. Я прекрасно знала об этом, когда была в Петербурге, и я довольно потешалась по этому поводу; поверьте мне, что тут должно быть что-то подозрительное, какое-то недоразумение и что, может быть, было бы очень хорошо, если бы этот брак не имел места". В последние годы в широких читательских кругах стала весьма популярной выдвинутая ленинградским исследователем М. И. Яшиным гипотеза, согласно которой Дантес женился на Екатерине Николаевне Гончаровой, исполняя желание Николая I {М. Яшин. Хроника преддуэльных дней.-- "Звезда", 1963, No 8, с. 159--184; No 9, с. 166--187.}. Прямых свидетельств, подтверждающих это предположение, у автора не было, и большинство специалистов отнеслось к его гипотезе отрицательно. Подлинной сенсацией пушкиноведения явилось, однако, опубликование в Париже русского перевода записок дочери Николая I -- Ольги Николаевны. В этой книге, вскоре ставшей известной и в Советском Союзе, имеется следующее место: "Папа <имеется в виду император Николай I>... поручил Бенкендорфу разоблачить автора анонимных писем, а Дантесу было приказано (курсив мой.-- Я. Л.) жениться на старшей сестре Наталии Пушкиной, довольно заурядной особе. Но было уже поздно: раз пробудившаяся ревность продолжала развиваться. Некоторое время спустя <...> Дантес стрелялся с Пушкиным на дуэли, и наш великий поэт умер, смертельно раненный его рукой" {Я. Л. Левкович. Новые материалы для биографии Пушкина, опубликованные в 1963--1966 гг.-- "Пушкин. Исследования и материалы", т. V. Л., 1967, с. 374*.}. Казалось, что свидетельство дочери царя неопровержимо. Я. Л. Левкович с полным основанием заметила в своей статье: "Теперь загадка женитьбы Дантеса перестала быть загадкой". Автор этих строк также нимало не сомневался в решающем значении опубликованного в Париже текста. Представлялось все же совершенно необходимым, чтобы для большей точности он был сверен непосредственно с не опубликованным до сих пор французским подлинником "Записок", хранящимся в настоящее время в Штутгартском архиве. В печати был известен лишь немецкий перевод этого источника, выпущенный в Германии еще в 1955 году {Я. Л. Левкович. Две работы о дуэли Пушкина.-- "Русская литература", 1970, No 2, с. 211--212.}. С него и был сделан опубликованный в Париже русский перевод. Подлинный французский текст недавно сообщил в Ленинград живущий в Париже праправнук Пушкина Георгий Михайлович Воронцов-Вельяминов {Г. М. Воронцов-Вельяминов. Пушкин в воспоминаниях дочери Николая I.-- Врем. ПК, 1970. Л., 1972, с. 24--29.}. По словам Я. Л. Левкович, "от двойного перевода всегда можно ждать неожиданностей". И действительно, при проверке оказалось, что во французском подлиннике речь идет не о вмешательстве царя, а об активности друзей поэта, которые "нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения" -- принудить Дантеса жениться. Нельзя не согласиться с мнением автора статьи, подчеркнувшей, что, "таким образом, предположение Яшина о женитьбе по приказу царя снова превратилось в неподтвержденную документами гипотезу". Попытки установить истинную причину загадочного поступка Дантеса, надо думать, будут продолжаться. Однако менее всего вероятно, что они подтвердят утверждения Геккерна-старшего, писавшего 30 января 1837 года министру иностранных дел Голландии барону Верстолку: "Сын мой, понимая хорошо, что дуэль с г. Пушкиным уронила бы репутацию жены последнего и скомпрометировала бы будущность его детей, счел за лучшее дать волю своим чувствам и попросил у меня разрешения сделать предложение сестре жены Пушкина <...>" {Щеголев, с. 324.}. Трусом Дантес не был, но вся его жизнь показывает, что рыцарем он также не был. Очень интересно упоминание Фикельмон о том, что Наталья Николаевна ревновала сестру к Дантесу и отважилась говорить об этом с мужем. В письме С. Н. Карамзиной к брату от 20--21 ноября 1836 года тоже есть многозначительные строки: "Натали нервна, замкнута, и, когда говорит о замужестве сестры, голос ее прерывается" {Карамзины, с. 139.}. Повествуя о романе Пушкиной и Дантеса, Дарья Федоровна говорит: "...все мы видели, как росла и усиливалась эта гибельная гроза!" Все видели, но далеко не все понимали, как понимала Фикельмон, что перед ними разыгрывается драма поэта. Семья Карамзиных -- давние и близкие друзья поэта. Все они любят Пушкина как человека и чтут его гений, но к его семейным делам Карамзины относятся совершенно иначе, чем Долли Фикельмон. В особенности характерны письма дочери историка, Софьи Николаевны. Приведу из них несколько выдержек: "Вяземский говорит, что он [Пушкин] выглядит обиженным за жену, так как Дантес больше за ней не ухаживает". "...Пушкин продолжает вести себя самым глупым и нелепым образом; он становится похож на тигра и скрежещет зубами всякий раз, когда заговаривает на эту тему, что он делает весьма охотно, всегда радуясь каждому новому слушателю. Надо было видеть, с какой готовностью он рассказывал моей сестре Катрин обо всех темных и наполовину воображаемых подробностях этой таинственной истории, совершенно так, как бы он рассказывал ей драму или новеллу, не имеющую к нему никакого отношения" {Там же, с. 139, 148.}. "Словом, это какая-то непрестанная комедия, смысл которой никому хорошенько не понятен; вот почему Жуковский так смеялся твоему старанию разгадать его, попивая кофе в Бадене". Александр Николаевич Карамзин, бывший шафером Е. Н. Гончаровой, писал: "Неделю тому назад сыграли мы свадьбу барона Эккерна с Гончаровой <...> Таким образом кончился сей роман à la Balzac {В стиле Бальзака.} к большой досаде петербургских сплетников и сплетниц" {Карамзины, с. 154.}. Тирадам насмешливой барышни можно было бы не придавать серьезного значения, но из ее писем мы узнаем, что смеялась не одна она. Подтрунивал над Пушкиным Вяземский, и даже Василий Андреевич Жуковский, только что с великим трудом уладивший дело с первым вызовом, находил повод к смеху. Насмешливое отношение к этой странной истории чувствуется и в письме Александра Николаевича Карамзина. Глубоко и искренне было горе друзей Пушкина. Но все это было после катастрофы, а когда она готовилась, многие и многие близкие Пушкину люди, в противоположность прозорливой Фикельмон, видели в том, что происходило, не трагедию, а комедию или, в лучшем случае, трагикомедию... Еще до рассылки диплома, наблюдая обращение Дантеса с Натальей Николаевной на светских собраниях, графиня заметила, что барон решил "довести ее до крайности". Надо сказать, что французское выражение, которое она употребила, применяется охотниками в смысле "загнать", "довести до изнеможения" свою жертву. Позднее, перед самым поединком, странное и тяжелое впечатление производило в обществе поведение всех главных действующих лиц дуэльной драмы. С. Н. Карамзина потом сожалела о том, что так легко отнеслась к "этой горестной драме", но для нас все же ценны ее наблюдения в один из вечеров жизни поэта (24 января): "В воскресенье у Катрин {Княгиня Екатерина Николаевна Мещерская, урожденная Карамзина.} было большое собрание без танцев: Пушкины, Геккерны (которые продолжают разыгрывать свою сентиментальную комедию к удовольствию общества. Пушкин скрежещет зубами и принимает свое всегдашнее выражение тигра, Натали опускает глаза под жарким и долгим взглядом зятя,-- это начинает становиться чем-то большим обыкновенной безнравственности; Катрин (Екатерина Николаевна Геккерн.-- Н. Р.) направляет на них свой ревнивый лорнет, а чтобы ни одной из них не оставаться без своей доли в драме, Александрина по всем правилам кокетничает с Пушкиным, который серьезно в нее влюблен и если ревнует свою жену из принципа, то свояченицу -- по чувству. В общем все это очень странно, и дядюшка Вяземский утверждает, что он закрывает свое лицо и отвращает его от дома Пушкиных)" {Карамзины, с. 165.}. В записи Фикельмон мы не находим таких зарисовок, но она считает, что именно наглое поведение Дантеса послужило непосредственным поводом к дуэли. Дарья Федоровна лишь описывает факты, но не дает их объяснения. Его мы находим в письме барона Фризенгофа, причем на этот раз он говорит лично от своего имени (не надо, однако, забывать, что письмо было целиком проверено и одобрено Александрой Николаевной): "...Геккерн продолжал демонстративно восхищаться своей новой свояченицей; он мало говорил с ней, но находился постоянно вблизи, почти не сводя с нее глаз. Это была настоящая бравада, и я лично думаю, что этим Геккерн намерен был засвидетельствовать, что он женился не потому, что боялся драться, и что если его поведение не нравилось Пушкину, он готов был принять все последствия этого" {"Красная нива", 1924, No 24, 9 июня, с. 10--12.}. Это объяснение очень правдоподобно. Своей непонятной женитьбой Дантес поставил себя в глазах общества в ложное и унизительное положение. Вероятно, многие подозревали, что блестящий кавалергард действительно струсил и женился, чтобы избежать поединка. К сожалению, и Пушкин, как показывает его письмо к посланнику Геккерну, вызвавшее дуэль, держался того же взгляда и вряд ли хранил его в тайне. "...Я заставил вашего сына играть роль столь жалкую, что моя жена, удивленная такой трусостью и пошлостью, не могла удержаться от смеха, а то чувство, которое, быть может, и вызывала в ней эта великая и возвышенная страсть, угасло в презрении самом спокойном и отвращении вполне заслуженном",-- писал он Геккерну-отцу. Развязка приближалась. Бал, о котором упоминает Фикельмон, состоялся у обер-церемониймейстера графа Ивана Илларионовича Воронцова-Дашкова 23 января накануне приема у Мещерских. Барон Фризенгоф описал то же происшествие в следующих выражениях: "В свое время мне рассказывали, что поводом послужило слово, которое Геккерн бросил на одном большом вечере, где все присутствовали; там был буфет, и Геккерн, унося тарелку, которую он основательно наполнил, будто бы сказал, напирая на последнее слово: это для моей законной. Слово это, переданное Пушкину с комментариями, и явилось той каплей, которая переполнила чашу" {Там же.}. 26 января поэт послал голландскому посланнику роковое письмо. Существует и другая версия "последнего толчка", которую принимает П. Е. Щеголев. Она восходит к самой Наталье Николаевне и впервые была изложена в воспоминаниях А. П. Араповой. По ее словам, года за три перед смертью H. H. Ланская "рассказала во всех подробностях разыгравшуюся драму нашей воспитательнице, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю свою жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам <...>". Поводом к дуэли послужило свидание, которое Дантес, угрожая в случае отказа покончить с собой, выпросил у Натальи Николаевны, уже будучи женатым. Свидание состоялось в кавалергардских казармах на квартире приятельницы и свойственницы Пушкиной Идалии Григорьевны Полетики, внебрачной дочери графа Г. А. Строганова {Ее муж, полковник А. М. Полетика, был офицером Кавалергардского полка.}. "...Дойдя до этого эпизода, мать, со слезами на глазах, сказала: "Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это согласие на роковое свидание... Свидание, за которое муж заплатил своей кровью, а я -- счастьем и покоем всей своей жизни..." "Несмотря на бдительность окружающих и на все принятые предосторожности, не далее, как через день, Пушкин получил злорадное извещение от того же корреспондента о состоявшейся встрече" {Иллюстр. приложение к "Новому времени", 1908, No 11425, 2 января, с. 5--6.}. По уверению А. П. Араповой, Пушкин "прямо понес письмо к жене". "Оно не смутило ее. Она не только не отперлась, но, с присущим ей прямодушием, поведала ему смысл полученного послания, причины, повлиявшие на ее согласие, и созналась, что свидание не имело того значения, которое она предполагала, а было лишь хитростью влюбленного человека". Опытная писательница А. П. Арапова умело сочиняет диалоги (как русские, так и французские) и сводит концы с концами, повествуя о том, как "тихо, без гневной вспышки ревности" обошлось объяснение супругов. "Он нежным прощающим поцелуем осушил ее влажные глаза и, сосредоточенно задумавшись, промолвил как бы про себя: "Всему этому надо положить конец!" "Приведенное выше объяснение имело последствием вторичный вызов на дуэль Геккерна, но уже составленный в столь резких выражениях, что отнята была всякая возможность примирения". В подробном рассказе Араповой о дуэльной истории есть ряд фактических ошибок (вызов на поединок был, например, сделан Дантесом, а не Пушкиным). Многое в этом рассказе, несомненно, относится к области беллетристики, а не мемуарной литературы. Нельзя, однако, не, согласиться с мнением Щеголева о том, что, по существу, рассказу Араповой "можно и должно поверить, ибо это говорит дочь о матери". "Да, на квартире у Идалии Григорьевны Полетики состоялось свидание Дантеса с Натальей Николаевной" {Щеголев, с. 125--126.}. Прибавлю от себя -- легкомысленное согласие на такое свидание, даже если оно, в самом деле, было "столько же кратко, сколько невинно" -- это согласие является тяжким житейским грехом жены Пушкина, за который она, по-видимому, не переставала себя упрекать до конца своих дней. Факт свидания не подлежит сомнению, но дата его остается неизвестной. Возможно, что Пушкин узнал о нем непосредственно перед балом у Воронцовых-Дашковых. Тогда обе версии друг другу не противоречат -- поведение Дантеса 23 января только усилило разгоравшийся гнев Пушкина. Во всяком случае рассказ Фикельмон, непосредственной свидетельницы, несомненно, ценен и заслуживает внимательного исследования, как и все ее повествование о преддуэльных месяцах. Наоборот, как справедливо указывает Е. М. Хмелевская, вторая часть "записи, где говорится о дуэли и смерти Пушкина, не представляет большого интереса". Дарья Федоровна, как я уже упоминал, говорит с чужих слов, причем главным ее информатором, говоря современным языком, является В. А. Жуковский. Краткое описание поединка, которое она дает, в общем, соответствует истине, но ничего нового не содержит. Рассказывая о последних днях и часах поэта, Дарья Федоровна старательно, но порой не вполне точно повторяет легенду, созданную Жуковским и другими друзьями Пушкина в интересах его жены и детей. Нового здесь почти ничего нет, за исключением сообщения о том, что умирающий попросил своего секунданта Данзаса обещать не мстить за него и передать своим отсутствующим шуринам запрещение драться с Дантесом. Кроме Дарьи Федоровны, никто об этих словах Пушкина не упоминает. Я не буду комментировать второй части записи. Сделаю исключение только для упоминания Фикельмон о том, что "несчастную жену с трудом спасли от безумия, в которое ее, казалось, влекло мрачное и глубокое отчаяние". Приведу по этому поводу выдержку из черновика малоизвестного письма В. Ф. Вяземской, адресованного, по-видимому, Е. Н. Орловой {"Новый мир", 1931, No 12, с. 188--193. Письмо собственноручное с поправками князя Петра Андреевича.}. Вяземская почти не покидала квартиры Пушкиных в те дни, когда поэт умирал. Ее наблюдения, несомненно, точны и правдивы. Описывая трагические минуты сейчас же после кончины, Вяземская говорит: "Она (Пушкина) просила к себе Данзаса. Когда он вошел, она со своего дивана упала на колени перед Данзасом, целовала ему руки, просила у него прощения, благодарила его и Даля за постоянные заботы их об ее муже. "Простите!" -- вот что единственно кричала эта несчастная молодая женщина, которая, в сущности, могла винить себя только в легкомыслии, легкомыслии, без сомнения, весьма преступном". Горе Натальи Николаевны не было лишь кратким приступом отчаяния. Она долго и тяжко переносила смерть мужа. Наблюдательная Долли Фикельмон, по-видимому, была права, считая, что Наталья Николаевна была недалека от безумия. Вот что мы читаем в воспоминаниях ближайших друзей Пушкина. П. А. Вяземский: "Это были душу раздирающие два дня, Пушкин страдал ужасно, он переносил страдания мужественно, спокойно и самоотверженно и высказывал только одно беспокойство, как бы не испугать жены. "Бедная жена, бедная жена!" -- восклицал он, когда мучения заставляли его невольно кричать" {Щеголев, с. 263--264.}. А. И. Тургенев: "...1 час. Пушкин слабее и слабее... Надежды нет. Смерть быстро приближается, но умирающий сильно не страждет, он покойнее. Жена подле него... Александрина плачет, но еще на ногах. Жена -- сила любви дает ей веру -- когда уже нет надежды! Она повторяет ему: "Tu vivras" ("Ты будешь жить!)" {"Пушкин и его современники", вып. VI. СПб., 1908, с. 51--52.}. С. Н. Карамзина: "...Мещерский понес эти стихи {М. Ю. Лермонтова "На смерть поэта".} Александрине Гончаровой, которая попросила их для сестры, жаждущей прочесть все, что касается ее мужа, жаждущей говорить о нем, обвинять себя и плакать. На нее по-прежнему тяжело смотреть, но она стала спокойней и нет более безумного взгляда. К несчастью, она плохо спит и по ночам пронзительными криками зовет Пушкина" {Карамзины, с. 175.}. Ее мольбы о прощении словно обращены в века... Я уже упомянул о том, что короткая, вторая, часть записи отделена чертой от основного текста, который в целом носит характер исторической справки. Ее содержание гораздо более интимно, и, может быть, именно по этой причине правнук графини не счел уместным включить ее в присланную мне копию. Графиня Фикельмон больше не историк драмы Пушкина. Она внезапно становится откровенной и спрашивает себя: "Но какая женщина посмела бы осудить госпожу Пушкину?" Тут же Дарья Федоровна дает ответ, который похож на полупризнание в том, что она тщательно скрывает: "Ни одна, потому что все мы находим удовольствие в том, чтобы нами восхищались и нас любили, все мы слишком часто бываем неосторожны и играем с сердцами в эту ужасную и безрасчетную игру". Строки, несомненно, и очень искренние, и очень личные. Праведницей графиня Долли себя не чувствует... По ее мнению, "роковая история" Дантеса и Натальи Николаевны должна была бы послужить хорошим уроком для светского общества, но этого не случилось. Все осталось по-старому: "Никогда, напротив, петербургский свет не был так кокетлив, так легкомыслен, так неосторожен в гостиных, как в эту зиму!" В совсем короткой заключительной приписке, также отделенной чертой, графиня Долли как бы хочет сказать будущим читателям дневника -- и своим потомкам и посторонним людям: "... эта печальная зима отняла у нас Пушкина, я скорблю о нем, как и все, но не подумайте, что он был другом моего сердца. Это все мама... Я потеряла в эту зиму другого человека, действительно мне дорогого, "друга, брата моей молодости, моей счастливой и прекрасной неаполитанской молодости!" Трудно решить, правдиво ли говорит Дарья Федоровна о своих тогдашних чувствах или все это лишь маскировка ее былого увлечения поэтом. Упоминания о Пушкине в связи с тем, что он был другом покойной матери, есть и в поздних письмах Дарьи Федоровны к сестре. Вскоре после отъезда из Петербурга она пишет: "Я хотела бы иметь гравированный портрет Пушкина в память привязанности, которую питала к нему мама" (22 октября. 1840 года). "Мне показали вчера портрет Пушкина: он возбудил во мне большую нежность, напомнив мне всю его историю, сочувствие, с которым к ней отнеслась мама, и как она любила Пушкина" (3 декабря 1842 года). "Пришли мне, пожалуйста, автографы для Вильнев-Транса и для меня. Прежде всего императора Николая, императора Александра, Петра Великого, Екатерины II, Марьи Федоровны, Пушкина -- словом, все, что ты найдешь наиболее интересного для моего кузена {По-видимому, речь идет о племяннике графа Фикельмона (сыне его сестры) маркизе де Трансе, умершем в 1850 году в Нанси, где скончался и его отец. Следовало бы попытаться разыскать во Франции потомков этого маркиза, так как у них мог сохраниться пушкинский автограф.} и для меня <...>" (13 мая 1843 года). В письмах к сестре за 1840--1854 годы Долли Фикельмон постоянно вспоминает о своих многочисленных русских друзьях и знакомых, но только раз она упомянула о Наталье Николаевне, и притом неодобрительно: "...Пушкина, как кажется, снова появляется на балах. Не находишь ли ты, что она могла бы воздержаться от этого; она стала вдовой вследствие такой ужасной трагедии, причиной которой, хотя и невинной, как-никак явилась она" (17 января 1843 года). К Дантесу Дарьи Федоровна осталась непримиримо враждебна. Он приезжал в 1842 году в гости к своему приемному отцу, назначенному в конце концов посланником в Вену. 28 ноября этого года графиня пишет: "Мы не увидим госпожи Дантес, она не будет бывать в свете, и в особенности у меня, так как она знает, что я смотрела бы на ее мужа с отвращением. Геккерн также не появляется, его даже редко видим среди его товарищей. Он носит теперь имя барона Жоржа де Геккерна". А у русской знати, проживавшей летом 1837 года в излюбленном тогда Бадене, не было и тени отвращения к убийце Пушкина; всего через несколько месяцев после дуэли свидетели недавней трагедии превесело проводили время вместе с высланным из России бароном Жоржем. Даже Андрей Николаевич Карамзин, с таким гневом писавший близким о дуэльной истории, помирился с Дантесом и принимал участие в этих увеселениях. Мне остается исправить одно старинное недоразумение. В 1911 году П. И. Бартенев в рецензии на книгу писем графа и графини Фикельмон упомянул о том, что Дарья Федоровна принимала в Вене госпожу Геккерн, то есть Екатерину Николаевну. Однако соответствующее письмо помечено 20 декабря 1850 года, когда последней уже давно не было в живых (умерла в 1843 году). Видимо, публикатор неверно прочел во французском подлиннике "madame" вместо "monsieur", или же в текст вкралась опечатка. Речь, несомненно, идет о посланнике Геккерне, который оказался соседом Фикельмонов по дому и сделал графине визит. Она пишет: "...я была взволнована, снова увидев эту личность, которая мне так много напомнила. Я приняла его так, будто все время продолжала с ним видеться, и у него был гораздо более смущенный вид, чем у меня" {Сони, с. 298.}. Больше фамилия Геккерна в письмах не упоминается. Видимо, эта первая встреча через тринадцать лет после дуэли была и последней. В другом месте графиня Долли упоминает о том, что единственный человек в Вене, с которым она может говорить о Петербурге,-- это Медженис {Артур К. Медженис (Magenus), английский дипломат, близкий приятель Фикельмон, которого Пушкин приглашал в секунданты, но тот отказался.}.