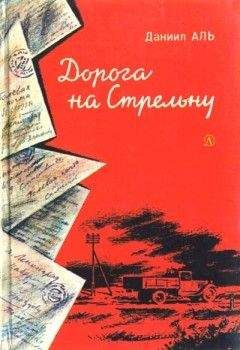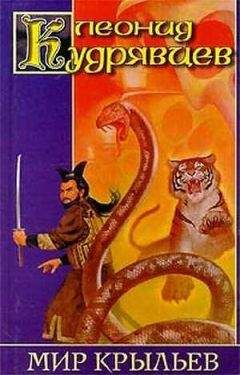Ираклий Квирикадзе - Мальчик, идущий за дикой уткой
Так завершилась моя первая кинопремьера. Я перестал снимать игровые фильмы. Взял свой “Болекс” в летний сад филармонии, где Ван Клиберн играл Первый концерт Чайковского. Чудо сегодня смотреть на молодого Вана Клиберна, сидящего у рояля, и слушать торжественные звуки Первого концерта…
Фотография 41. 1947 год
Блуждая в лабиринтах памяти, я не раз обнаруживал полузабытые, давние события… Это могла быть свадьба нашей соседки Мальвины Чохели с первого этажа, в которую я, одиннадцатилетний, был влюблен (об этом знал весь наш Музейный переулок), а она вышла замуж за геолога Заура Канкия. Свадьбу сыграли 1 января, так как геолог срочно улетал на остров Шпицберген. Меня поставили на кухне Мальвины у большущей винной бочки, я разливал вино по бутылям, которые сестры Мальвины уносили в зал, где за длинными столами сидели гости. Часто вино не желало течь по резиновому шлангу, и я, виночерпий, присасывался к концу шланга – вытягивал вино сперва себе в рот, потом опускал шланг в бутыль. Если вам понятен этот процесс, то вы поймете, почему юный виночерпий опьянел к середине свадебного пиршества. На кухню вошла невеста. Она двоилась, троилась в моих пьяных глазах. Она (они) в белых шелковых платьях шутливо набросили на меня фату и поцеловали, я зло укусил ее (их) в грудь (груди). Невеста взвыла, ударила меня, я бросил на пол бутыль, выбежал из кухни. Ворвался в нашу квартиру, открыл дверцу платяного шкафа, нашел в картонной коробке из-под обуви дедушкин именной револьвер времен только что окончившейся войны с Гитлером. Нажал в темноте на курок, увидел сноп огня, почувствовал горячую волну воздуха у левой щеки. Запахло паленым. Я попал в воротник рыжей лисицы, которую уже раз убили (давно до меня). Нажал на курок вторично, выстрела не последовало. То ли осечка, то ли больше не было пуль в магазине револьвера. Я сидел в шкафу и плакал. Я впервые задумался о смерти и о бессмысленности жизни…
С первого этажа слышались песни. Свадьба гуляла. Разорвались цветные огни фейерверков. Кричали “С Новым годом!” Так в Музейном переулке, 16, встретили тысяча девятьсот пятидесятый год!
На другой день бабушка расспрашивала всех: “Кто мог стрелять в воротник моего зимнего пальто?” Дедушка изучал траекторию полета пули, которая, расправившись с рыжей лисой, пробила заднюю стенку шкафа и застряла в потолке. Но он не был ни Пинкертоном, ни Шерлоком Холмсом.
Наш дом был опоясан типичными для Тбилиси длинными открытыми балконами. В доме жили шумные, веселые люди… Новый год, праздники 1 Мая, 7 Ноября, дни конституции жильцы справляли все вместе. Грузины, армяне, русские, украинцы, азербайджанцы, евреи, осетины, айсоры. На балконах расставляли столы, приносили из квартир кто сациви, кто долму, кто чахохбили, кто хашламу, вино в больших и малых бутылях. Пили, пели, танцевали…
Но почему-то постоянно кто-то, как и я, совершал попытки покончить с жизнью или умирал как-то нелепо. Смешно хоронили тех, кто умер на втором, третьем, четвертом, пятом этажах. Странность этой фразы требует объяснения. Представьте, балкон, в конце его – узкая лестница. Строители дома как-то не рассчитали ширину лестничной площадки, она была настолько узкая, что гроб с покойником не мог в ней развернуться. Надо было открыть двери соседствующих с лестницей квартир, внести гроб, там развернувшись, выйти и по той же лестнице спуститься ниже. И так все пять этажей…
Живущие в соседствующих с лестницами квартирах мучились от нашествия гробов, мертвецов, но терпели. Хотя каково – ты сидишь у себя дома, пьешь чай, или читаешь роман “Алитет уходит в горы”, или обнимаешь сокурсницу, вдруг звонок в дверь, заносят гроб, делают круг и выносят гроб через другие двери. Жильцы дома проклинали архитектора Татулова, спроектировавшего чрезвычайно узкие лестничные площадки.
Жизнь города на берегу Куры во многих своих проявлениях была странной. По утрам тбилисцы просыпались от криков: “Баты-буты на бутылки!” Это уличные торговцы собирали пустые бутылки и взамен одаривали шарами из воздушной кукурузы, политые сладким соком. Мы, дети сороковых—пятидесятых годов, выбегали улицу, звеня спешно собранными бутылками. Два раза я был бит за то, что выплескивал в кухонную раковину коньяк, не понимая, что значит для моего папы наполовину пустая бутылка пятизвездочного коньяка “Греми”.
“Квабеби мосакали!” (паять котлы!) – кричали паяльщики медных котлов, тазов, кастрюль. Один рыжеволосый паяльщик развлекал горожан тем, что изображал из себя заику и, коверкая слова, кричал: “Калеби мосаткнави!” Если перевести на русский, получалось вместо “Паять котлы!” – “Трахаю женщин!”
Слыша эти слова, мой отец и дядя ржали, мама и тетки смущенно фыркали, кричали с балкона рыжему паяльщику: “Нахал, тебя слышат дети!” Тот свое: “Трахаю женщин!”
Слышал его и наш сосед по балкону Кандит Попхадзе, известный летчик-испытатель тбилисского самолетного завода № 31. Этот Кандит не раз посылал меня купить арбуз, и я, как послушный мальчик, покупал и тащил десятикилограммовое зеленое ядро на четвертый этаж. За это получал жестяную модель боевого самолета.
Кандит Попхадзе был бритоголовый, пышнотелый мужчина, похожий на Бенито Муссолини времен диктаторства. И Кандит, и Бенито обожали красивых женщин.
Утром, когда жена Кандита, Нателла, напоив мужа чаем, в который тайно капала заговоренные капли индюшачьей крови, чтобы бычья сексуальность мужа уменьшилась (на время) до импотенции (так уверяла Тасо Пухаева, известная мастерица заговоров, живущая в Дидубе, к ней ходили все обиженные тбилисские жены, в том числе и моя мама), заговор этот действовал лишь до дверей соседствующей с лестницей квартиры на четвертом этаже. Летчик-испытатель перед тем, как спуститься по лестнице, воровато оглядывался по сторонам, резко открывал двери квартиры Иветты Толбухиной, работавшей в буфете ЦК комсомола Грузии. Минут через двадцать Кандит выходил с рассеянной улыбкой на лице и садился в трамвай. Его узнавали по газетным фотографиям, уступали место. Но однажды зимой под Новый год двойник Бенито Муссолини застыл над лежащей под ним белокурой Толбухиной, потом упал в ее необъятные груди и долго не откликался на шепот: “Кандит, Кандит, что с тобой, дорогой?!”
Тот, кто недавно был вулканом страсти, холодел на глазах Иветты Толбухиной. Она с трудом выползла из-под тяжелого летчика, приняла душ, накрасила губы, заперла двери на ключ и пошла по балкону к квартире Кандита Попхадзе, позвонила. Дверь открыла Нателла. Они выпили кофе, сваренный в медной джезве. Иветта хорошо гадала на кофейной гуще. Сообщила жене мертвеца много обнадеживающего о муже, который скоро перестанет изменять ей, перестанет уезжать в “фальшивые” командировки “испытывать самолеты”. В действительности он ездил в Сочи, Ялту с женщинами, которые присылали Нателле письма и фотографии, где они, обнаженные, обнимаются с “лучшим любовником черноморского побережья” (строка из письма). Иветта Толбухина говорила правду, кончились донжуанские подвиги Кандита Попхадзе. Но сказать истинную правду она не решилась… Вернулась к себе, получив в подарок “Рижский бальзам”. Кандит продолжал лежать в кровати, не двинувшись ни на сантиметр за время ее отсутствия.