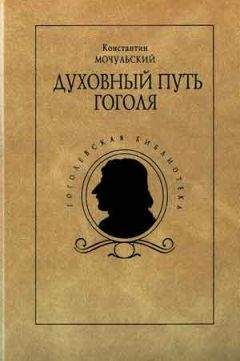Константин Мочульский - Александр Блок
Встречи в ресторанах, поездки на острова, случайные свидания, любовные поединки — вся эта ночная, распутная и хмельная жизнь нужна поэту только для того, чтобы в душе «запели скрипки». Сколько стихотворений посвящено страсти, сладострастью, и как мало в этих стихах настоящей физической чувственности. Блок так же духовен, как и «сладострастники» Достоевского. Он погружается в разврат и продолжает оставаться бесплотным; ищет в нем не утоления похоти, а потрясения духа: страсть «горькая, как полынь» налетает ветром на струны — и они начинают звучать. Эта музыка — его лирическая жизнь, его вдохновение, его дыхание. Когда он не слышит таинственной внутренней песни — он мертв. Но какой страшной ценой покупается песенный дар! Какое унижение — случайные объятья, постылые обряды, притворные восторги! Никто после Достоевского не написал таких страшных слов о метафизической пошлости сладострастья, как «развратный» Блок. В стихотворении «Унижение» — встреча с женщиной в доме свиданий. В первой строфе замечание в скобках дает тон:
(К эшафоту на казнь осужденных
Поведут на закате таком).
Далее— обстановка: «красный штоф полинялых диванов», «пропыленные кисти портьер», «голые рисунки журнала», «грязная кнопка звонка». Действующие лица: купчиха, шулер, студент, офицер. И вдруг вырывается стон:
Разве дом этот — дом в самом деле?
Разве так суждено меж людьми?
Вот— она: «бела, словно плат», «губы с запекшейся кровью». И снова крик ужаса:
(Разве это мы звали любовью?)
Кровать на фоне огромного, желтого заката… Ее объятья душат, как кольца сытой змеи.
Словно змей, тяжкий, сытый и пыльный
Шлейф твой с кресел ползет на ковер.
Пытка унижением и отвращением кончается приглашением на позорную казнь:
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце — острый французский каблук!
Сердце, пронзенное французским каблуком, — потрясающее выражение низменности, цинизма и кощунства «страсти». Как у Достоевского — пошлость граничит здесь с фантастикой.
Соблазн страсти в ее таинственной неотделимости от смерти. Вот снова поездка с «ней» на острова; опять «под талым снегом хрустит песок», она прижимается к нему— ее вуаль, развеваясь по ветру, бьет его по лицу. И снова запевает кровь, и ветер и небо звенят музыкальной бурей:
…И мне казалось — сквозь храп коня —
Венгерский танец в небесной черни
Звенит и плачет, дразня меня…
Любовное свидание— сон и обман. Музыка «звенит и плачет» — не о любви. Она, первая, слышит этот голос.
И вдруг — ты, дальняя, чужая,
Сказала с молнией в глазах:
То душа, на последний путь вступая,
Безумно плачет о прошлых снах.
Заключительные— удлиненные и отяжеленные строки— кончают любовные стихи траурными звуками Requiem-a.
В стихотворении «Идут часы, и дни, и годы» призрачность образов любви и погруженность их в темное лоно музыки выражены игрой теней и обрывками воспоминаний. «Хочу стряхнуть какой-то сон». Что-то произошло: была ночь, жалобная стужа, луна, море…
Слова? — Их не было. — Что ж было?
Ни сон, ни явь. Вдали, вдали
Звенело, гасло, уходило
И отделялось от земли…
Это «что-то» (средний род) — первоначальное, довременное; смутное волнение, из которого рождаются лирические образы. Об этом состоянии говорил Пушкин:
Душа стесняется лирическим волненьем,
Трепещет и звучит…
Поэту снится: из рук его выпал меч; рана перевязана шелком; обезоруженный и послушный, он служит ей. Но, тяжелый сон любви наконец прерывается. Он понимает, что то, что «звенело, гасло, уходило», пело не о любви, а о смерти:
Но час настал. Припоминая,
Я вспомнил: нет, я не слуга.
Так падай, перевязь цветная!
Хлынь, кровь, и обагри снега!
Блок говорил (в статьях и письмах), что искусство покупается ценой жизни, что оно «проклятие и гибель», что лицо художника, как лицо Данте, обожжено адским пламенем. Эта «философия искусства» с классическим совершенством выражена в прославленном стихотворении:
Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще нежившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!
Поэтическая тема: «мертвый среди живых» вдохновляет Блока на цикл стихотворений «Пляски смерти». Эти Danses macabres открываются описанием светской жизни мертвеца, встающего из гроба. Поэт усиливает контраст жизни и смерти своеобразным приемом: смерть изображена, как «настоящее», а жизнь, — как бессмысленный и безобразный бред.
Уж вечер. Мелкий дождь зашлепал грязью
Прохожих, и дома, и прочий вздор…
Днем мертвец трудится в Сенате над докладом; вечером таксомотор несет его «к другому безобразию» — на светский бал. В мертвеца влюблена NN.
В ее лице, девически прекрасном,
Бессмысленный восторг живой любви…
Так— злобными и нарочито грубыми словами умерщвлена жизнь. На балу мертвец встречается с мертвой подругой:
За их условно-светскими речами
Ты слышишь настоящие слова.
Все — обман и ложь; только у мертвых настоящие слова:
— Усталый друг, мне странно в этом зале.
— Усталый друг, могила холодна…
Ненадолго бальная музыка— музыка жизни и страсти — может заглушить «лязг костей». Сквозь влюбленные речи своего кавалера NN слышит:
В ее ушах — нездешний, странный звон:
То кости лязгают о кости.
Это — одно из самых злых «нигилистических» стихотворений Блока. Голое, исступленное отрицание, выжженная, пустая душа. Еще страшнее в мертвой лапидарности, в деревянном ритме стихотворение:
Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи еще хоть четверть века —
Все будет так. Исхода нет.
Умрешь, — начнешь опять сначала,
И повторится все, как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.
Последняя строчка повторяет первую: круг вечного возвращения замкнут. Две строфы— жизнь и смерть, — как два зеркала, бесконечно отражают друг друга. Точность отражения подчеркивается внутренней рифмой: «умрешь — начнешь». То, что в первом зеркале было направо, во втором — налево: «Улица, фонарь, аптека» — «аптека, улица, фонарь». И эти три— самые обыкновенные слова, — как ядом, наливаются мистической жутью: