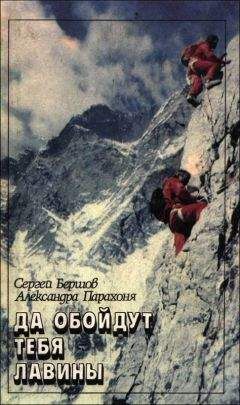Арман Лану - Здравствуйте, Эмиль Золя!
В анкете упоминалась нижеследующая деталь, которая не вошла в работу доктора Тулуза: «Золя испытывал приступы тоски, вызванные воспоминаниями детства, когда он ребенком оказался в плотной толпе в день празднования великого поста». Странно, что доктор недооценил эту черту. Можно представить, какую пользу извлек бы в подобном случае Фрейд из «Воспоминаний детства Винчи», или Гастон Башеляр, или Мария Бонапарт из «Психоанализа По». Однако надо перенестись в ту эпоху, которая хотя и чувствовала психологию толпы, но воспринимала ее несколько иначе, чем теперь, и поблагодарить доктора Тулуза за то, что он упомянул об этой детали, не исказив ее сущности.
В самом деле, разве основная черта Золя-романиста не в том, что он великолепно чувствует психологию толпы? Какая удача, что страхи тщедушного, застенчивого и, может быть, травмированного ребенка, подверженного крайней нервозности, компенсируются волшебством писательского труда! И все же многие психоаналитические гипотезы были обоснованы куда хуже, чем эта.
Все эти любопытные детали не ускользнули от внимания Фрейда, который сказал по этому поводу:
«Как правило, мы мало что знаем об интимной стороне жизни великих людей; это одновременно следствие их собственной сдержанности и неискренности их биографов. Временами случается, когда какой-нибудь фанатик истины, вроде Эмиля Золя, обнажает перед нами свою жизнь и тогда-то мы узнаем, сколько навязчивых привычек обременяли его».
Не следует питать иллюзий в отношении ценности психоанализа, который через полсотни лет также устареет, как и устарела анкета психиатра Тулуза. Можно не признавать само слово «психоанализ» и считать, что лучшее в этом слове заключается именно в анализе. Можно подвергать сомнению труды ученых прошлого и настоящего. Наука времен Золя носила профессорскую бородку и сюртук и откровенничала за субботним вечерним чаем в узком кругу посвященных. И несмотря на то, что она оставила нам весьма необычный и слишком уж концентрированный образ писателя, находящегося в критическую пору своей жизни, эта наука все-таки не впала в шаблон. «Литературный пахарь», «романтический ассенизатор», «Золя-пакостник» был человеком очень нервным, суеверным, колеблющимся и откровенным, что иногда шло ему во вред, человеком чувственным (скорее, больше в своих творениях, чем в жизни), пессимистичным, великодушным, вспыльчивым, обожающим приступы собственного гнева и наивным до величия. Он предстает перед нами со всеми своими слабостями, которые терпеливо и долго изучались, наивным чернокнижником, боящимся грозы и темноты. Перед нами живой Золя: он замечает, как у его ног проскальзывают воображаемые чудища, вроде Купо из «Западни», какие-то магические образы, напоминающие о страхе смерти, той смерти, которую он попробовал приручить в «Радости жизни»[156].
И еще раз мы утверждаем: в любом случае Золя — нормальный человек.
Возьмем от психиатров только то, что они могут нам дать. Сын писателя, Жак Эмиль-Золя, сам врач по профессии, очень хорошо знал Тулуза. Не без юмора он подчеркивает, что тот был беспокойным человеком, впрочем не отличавшимся в этом отношении от многих других представителей почтенной корпорации психиатров! «Он повсюду видел почву для наблюдения». Этот профессиональный заскок хорошо известен: «Он не мог видеть вещи просто». Впрочем, не стоит выходить из рамок этих заключений. Действительно, Золя был, как говорит сам Тулуз, невропатом постольку, поскольку его нервная система была весьма расшатана.
Вот таким нам представляется истинное лицо Золя, когда он «впутывается» в Дело Дрейфуса, откинув прочь свою застенчивость и все то, что ему претит, чтобы столкнуться со своим сокровенным врагом — с толпой, которая всегда внушала ему ужас. Давид, который все больше и больше походит на Пастера, бородатый и седой, с волосатой грудью, иногда виднеющейся из-под накрахмаленной рубашки, романист-центурион в пиджачной паре, удивительно нервозный, близорукий и слегка сюсюкающий, не всегда справляющийся с дрожью в пальцах и со своим языком, — этот Давид смело выступит против чванства, жестокости и бахвальства Голиафа, украшенного галунами и одетого в броню, обладающего не только дерзостью, оружием и мощью, но и широкой поддержкой толпы.
Да, нужен был этот неоценимый, пусть даже несколько утрированный анализ доктора Тулуза, чтобы полностью признать мужество «замечательного выродка».
Глава вторая
5 января 1895 года Золя обедал у Альфонса Доде. Тучи, сгустившиеся после «Манифеста пяти», уже давно рассеялись. Сам Доде еще больше осунулся и постарел, и на лице его, казалось, застыла страдальческая маска иронии. В этот вечер до прихода Эдмона де Гонкура друзья договорились без его ведома об устройстве банкета в честь дня рождения писателя — ему исполнялось 73 года. Торжество должен будет возглавлять Раймон Пуанкаре; он же и вручит ему розетку Почетного легиона. Золя играл в этом «заговоре» главную роль, что подтверждается письмом Раймона Пуанкаре от 9 февраля: «Дорогой господин Золя. Все в порядке. Розетка для г-на де Гонкура уже у меня, о чем спешу Вас уведомить. Примите уверения и пр». Зависть, размолвки, небольшие измены, столкновения разных темпераментов и характеров не смогли разрушить странную дружбу двух писателей, столь несхожих между собой. Золя был совершенно незлопамятным человеком.
Извинившись за отсутствие сына, который был на церемонии разжалования капитана Дрейфуса, Альфонс Доде заговорил о своем намерении совершить этим летом путешествие в Лондон, если болезнь отпустит его.
— Эх! Вступить бы на настоящий корабль! — У него блестели глаза, как у ребенка, когда Золя рассказывал о Риме. — Как мне хочется побывать в Италии!
Альфонс Доде был уверен, что смерть не даст ему осуществить эту мечту. Разговорились о друзьях. Но многих друзей уже не было в живых. Жюль де Гонкур. Старик. Самый талантливый ученик старика — Мопассан…
Обед проходил в спокойной атмосфере дружеской беседы о литературе и болтовни, пересыпаемой анекдотами. На какой-то момент речь зашла о Дрюмоне, об антисемитизме и о пресловутом капитане Дрейфусе. Но все поспешили вернуться к разговорам о путешествиях. Потом пришел Леон. И вместе с ним в жилище больного писателя ворвалась кипучая и буйная жизнь. В свои двадцать шесть лет Леон Доде еще не успел превратиться в того тучного чревоугодника, каким рисовала его молва, но природа, словно потешаясь над этим антисемитом, наградила его типично еврейским профилем. Он только что излил свое ядовитое вдохновение в статье «Коновалы», направленной против врачей, и сознание того, что такая едкая писанина хорошо оплачивается, подтолкнуло его на путь, совершенно не похожий на тот, по которому шел отец. Подумать только, его слушают Гонкур и Золя!