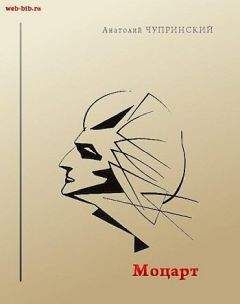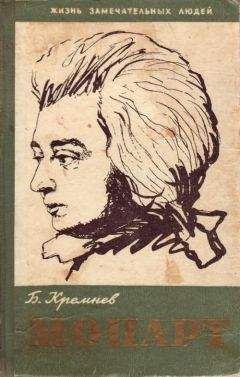Дмитрий Минченок - Дунаевский — красный Моцарт
Сам Исаак Осипович перебрался жить в гостиницу "Москва", в тот же трёхкомнатный номер с роялем. Композитор ещё пробовал как-то дирижировать дачной жизнью, пытаясь сохранить видимость порядка. Но вскоре понял, что это абсолютно бесполезно. Большую часть живности — знаменитых индюшек Зинаиды Сергеевны — пришлось ликвидировать. Для них не хватало корма. Хлеб снова стали отпускать по карточкам. Исаак Осипович пробовал покупать хлеб для птиц в магазинах "Люкс", но быстро выяснил, что это безумно дорого.
Зато, когда мог, высылал с оказией в Пенкино жене и сыну вкусные посылочки типа шоколада или коробки конфет, купленной ещё до поднятия цен. В письмах того времени Дунаевский беспокоится по поводу множества вещей. Кто-то сказал ему, что Пенкино считается малярийной местностью. Этого было довольно, чтобы он забросал Бобочку тревожными письмами и советами, как уберечься от малярии. Когда ему сказали, что всех "железников" эвакуируют из Пенкина подальше, он даже успокоился. По крайней мере, бомбёжки не будет, а осенью комариная опасность исчезает.
… С ним самим в это время происходили вещи довольно загадочные. Власть имела на него какие-то далеко идущие виды. За разговорами об обласканном артисте маячила фигура того, от кого эта ласка исходила, — Сталина. Сталин лично решал, что делать с отдельными художниками и композиторами. В начале войны композитору сообщили, чтобы он ждал особого решения своей участи. Это сопровождалось тяжёлой депрессией. Он думал, что вся страна погрузилась в депрессию. Власть испугалась, что идеологический пузырь, который она с таким трудом надувала, лопнет, а вместе с ним лопнут барабанные перепонки у тех, кто все эти бредни слушал, и послушный народ станет глух к лозунгам.
Перед композитором стояла дилемма. Он мог остаться в Москве — предлагали работу в Кинокомитете редактором или на радио — либо остаться во главе ансамбля железнодорожников. Он остался с ансамблем. В этом были свои преимущества. Железнодорожники обещали помочь вывести оставшиеся в Ленинграде вещи. Вначале Исаак Осипович ещё пытался ездить с друзьями во Внуково, но это было довольно грустное зрелище, и вскоре желание пропало само собой. А потом, когда он совсем перебрался в Москву, главной заботой на время стала переписка с Милетом и сочинение стратегических советов о том, как уберечь дачу. Несчастий накопилось довольно много, "… и в городе, и за городом", — писал Исаак Осипович. Пострадало много пригородов. Элитный дачный посёлок чудом сохранился. Свой собственный дом в письмах Дунаевский называет не иначе как "наша палатка".
"Как дальше будет — всё в руках Случая. Во всяком случае, я распорядился через Саженова — прораба, — писал он Бобочке, — принять некоторые меры предосторожности, хотя бы против зажигательных бомб, так как от фугасных ничем не спастись. Жалко будет, если сгорит дача. А сгореть она может, так как фактически никто спасать её не будет, ибо Милет отсиживается в леднике. И тушить бомбу некому".
Дунаевский приказал засыпать чердак песком поверх шлака, на крыше насыпать песок и поставить бочки с водой, разрушить недостроенную деревянную веранду и убрать подальше дерево, сделать лестницу на крышу. Он попросил Милета следить из сторожки за дачей во время налёта, обещал ему дополнительное вознаграждение за дежурство. "Вот и всё, что можно, в сущности, сделать", — подытожил он в письме. В глубине души ему было очень жаль, что "палатка", в которую вбухали столько денег, могла сгореть.
Спустя много лет Евгений Исаакович интересно прокомментировал эту мысль. Опасения по поводу того, что сгорит дача, были проявлением инерции мирного времени. Исаак Осипович ещё думал о деньгах. Потом появилось другое чувство — лишь бы самим выжить, а остальное, как говорится, в руках судьбы. Москву начали сильно бомбить. С наступлением темноты все сразу уходили в убежища. Гитлер редко позволял москвичам отдыхать полную ночь. Правда, потом тревоги стали короче, часов до двух ночи. Исаак Осипович пользовался передышкой и спал. В такое время ничего не сочинялось. Чтобы покончить с малоприятными темами, радостно писал жене и сыну, что гостинице "Москва" везёт. В первый налёт огромная бомба упала на нынешней Манежной площади и не разорвалась. А на следующую ночь бомба упала во двор гостиницы и тоже не разорвалась, а закопалась глубоко в землю. Этого было достаточно, чтобы дом возле "гранд-отеля" покосился. Теперь все письма Исаак Осипович писал при свете свечки, так как в гостинице по вечерам выключали свет.
В одном из писем Исаак Осипович сообщил о появлении весточки для Бобочки. "Саженов принёс мне телеграмму от Фёдора Ивановича". Фёдор Иванович Фёдоров познакомился с Зинаидой Сергеевной в доме отдыха в Кисловодске в тридцатые годы, где она отдыхала вместе с Геничкой. Потом они долго переписывались. Затем он начал приезжать только летом. Когда приезжал, звонил и просто говорил, что это звонит Федя. Познакомился с Исааком Осиповичем. Дунаевский знал о его рыцарской привязанности к Зинаиде Сергеевне. Даже шутливо укорял её за то, что она хотела уйти. Академик до конца своей жизни её боготворил.
Фёдора Ивановича не взяли в армию из-за плохого зрения, несмотря на то, что сам он был очень здоровым, спортивным человеком. Когда он снимал страшной увеличительной силы очки, то становился очень смешным. Из-под бровей торчали маленькие, как две бусины, глаза, которые ничего не видели. Фёдор Иванович пережил свою эпопею отступления. Он выходил из Минска пешком по шоссе. Показались немцы на мотоциклах. Они ехали в одних трусах — стояла страшная жара — и хохотали. Даже не обращали внимания на выстрелы в их сторону. Если кто-то стрелял из кустов, мотоциклист проезжал мимо, бросал в то место, где стреляли, пару гранат и ехал дальше. Всё без остановки.
Однажды — об этом говорила вся Москва — где-то в районе нынешней станции метро "Сокол" были захвачены два пьяных немецких мотоциклиста. Никогда ещё немцы не подходили так близко к заветной цели. Именно в этот момент Исаака Осиповича вызвал к себе главный политрук всех армий Лев Мехлис. Он спросил, что Дунаевский намерен делать в сложившейся ситуации. Исаак Осипович заявил о своей готовности драться.
— Ну, на фронт вас никто не посылает, — усмехнулся Мехлис, — а вот поднять настроение наших людей вам придётся. Вы ведь у нас такой большой мастер.
Так к Дунаевскому бумерангом вернулся миф о Данко. Его талант ассоциировался с искрой, которой надо было срочно зажечь потухшие души строителей социализма. Начало войны с Германией было первым серьёзным испытанием для идеологии, трубящей только о победах. Кстати, Дунаевский всегда тяготился тем, что его не принимают люди, которым он отдал свой талант. Тяготился не потому, что жаждал власти, а потому, что власть олицетворяла себя с теми постулатами, которые заменили ему Бога. Дунаевский стал неверующим не потому, что не верил в Иегову. У него был свой Иегова под именем Сталина и коммунизма, коллективизма и общности людей. Атеизм стал чем-то вроде художественного стиля эпохи, но не его сутью. Потому что Бог не может покинуть душу человека. Он может согласиться с тем, чтобы на какой-то промежуток времени его называли другим именем и приносили другие жертвы. Людские, как в начале истории.