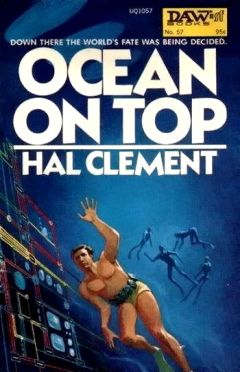Варлен Стронгин - Михаил Булгаков. Три женщины Мастера
– Тебе жаль меня? – смягчалась Любовь Евгеньевна.
– Жаль, – вздыхал Михаил Афанасьевич, – даже твою птицу Лялю.
– Она ест из моих рук, радуется, когда я треплю ее за гриву, расчесываю ее, – хвалилась Любовь Евгеньевна.
– Я тоже могу есть из твоих рук, – шутил Михаил Афанасьевич, – даже овсяную кашу!
– Молодец, Миша, не теряешь духа, даже в нашем буквально драматическом положении. Ты ничего не можешь поделать с этими тупоголовыми людьми, которые преследуют тебя. Ты пиши Сталину. Он должен войти в твое положение. Он смотрел «Дни Турбиных» чаще, чем я.
– С какой целью? – задавался вопросом Булгаков. – И в конце концов запретил? Ему я уже писал…
Любовь Евгеньевна в растерянности не знала, что сказать мужу, и переводила разговор в другое русло:
– Как было бы здорово, если бы он отпустил нас с тобою в Париж! О Париж, он мне снится ночами. Даже не хочется просыпаться…
– А как же Ляля? – с серьезным видом говорил Булгаков. – Кто будет кормить ее? Расчесывать ей гриву? Я могу подождать. Я не лошадь-рекордсменка и не летаю над землею…
– Нет! Моментами ты бываешь несносен! – взрывалась Любовь Евгеньевна и в раздражении отворачивалась от мужа.
Булгаков садился за письменный стол и доставал чистый лист бумаги: «Секретарю ЦИК Союза СССР Авелю Сафроновичу Енукидзе. 31/IX 1929 года:
«Ввиду того, что абсолютная неприемлемость моих произведений для советской общественности очевидна, ввиду того, что уничтожение меня как писателя уже повлекло за собою материальную катастрофу (отсутствие у меня сбережений, невозможность платить налог и невозможность жить, начиная со следующего месяца, при безмерном утомлении, бесплодности всяких попыток…) прошу разрешить мне вместе с женою Любовью Евгеньевной Булгаковой выехать за границу…»
– Пиши! Пиши! Капля точит камень! – оборачивалась к нему жена.
– Кому еще? Кажется, всему начальству отправил свои депеши, – оправдывался Михаил Афанасьевич.
– Подумай! – приказывала Любовь Евгеньевна. Булгаков снова склонялся над столом:
«31. IX 1929 г. А. М. Горькому.
Многоуважаемый Алексей Максимович!
Я подал Правительству СССР прошение о том, чтобы мне с женой разрешили покинуть СССР на тот срок, какой будет назначен… Все запрещено, я разорен, раздавлен, в полном одиночестве. Зачем держать писателя в стране, где его произведения не могут существовать? Прошу о гуманной резолюции отпустить меня».
Склонившаяся над письмом Любовь Евгеньевна читала его и хмурилась:
– Почему ты пишешь, что находишься в полном одиночестве? А я?
Булгаков рвался сказать ей, что у нее есть Ляля, но сдерживался, избегая очередного скандала, и не отвечал на ее вопрос. Он ждал хотя бы одного ответа на свое письмо и, конечно, не знал, почему они не приходят, пусть даже формальные. Более других лояльный к нему секретарь ЦК ВКП(б) А. П. Смирнов писал Молотову: «Считаю, что в отношении Булгакова наша пресса заняла неправильную позицию. Вместо линии на привлечение его и исправление – практиковалась только травля, а перетянуть его на нашу сторону… можно… Выпускать его за границу с такими настроениями – значит увеличить число врагов. Лучше будет оставить его здесь. Литератор он талантливый и стоит того, чтобы с ним повозиться».
Вопрос о Булгакове по предложению А. П. Смирнова должен был рассматриваться на заседании Политбюро 5 сентября 1929 года, но в протоколе заседания помечено: «п. 26. Слушали о Булгакове. Постановили: снять».
Сталин был в отпуске до ноября, а без него рассматривание вопроса о судьбе Булгакова решили отложить. Все знали, что этим писателем занимается лично Сталин, казнить писателя или помиловать – дело только его компетенции.
Булгаков разрешил жене сделать приписку в своем письме родному брату Николаю в Париже:
«Дорогой Коля! Я сердечно благодарю Вас и младшего брата Ваню за кофточку, чулки и гребешок. Кофточку я ношу изо всех сил. Все остальное произвело большое и приятное впечатление. Очень грустно, что мне технически невозможно (да и нечего) выслать Вам с Ваней. Внимательно просматривала Вашу французскую статью, удивляясь Вашей премудрости… Привет прекраснейшему городу от скромной его поклонницы. Сейчас у Вас сезон мимоз и начинают носить соломенные шляпы. У нас снег, снег и снег… Если не будет нескромно с моей стороны, то я хотела бы спросить – Вы собираетесь жениться на русской или француженке?
Люба».
Михаил Афанасьевич был утомлен, болен, но не сломлен. Пишет большое письмо правительству и ставит перед ним откровенный вопрос: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй. Мыслим ли я в СССР?»
Вернулся из отпуска Сталин. Но пока ему было не до Булгакова. Вождя обличал Троцкий, и его сторонники в стране внимали каждому слову этого политического изгнанника. Надо было «разобраться» и со всяческими уклонистами от генеральной линии партии. Булгаков сам напомнил Сталину о себе 5 мая 1930 года:
«Я не позволил бы себе беспокоить Вас письмом, если бы меня не заставила сделать это бедность. Я прошу Вас, если это возможно, принять меня в первой половине мая. Средств к спасению у меня не имеется. Уважающий Вас Михаил Булгаков».
Письмо отправлено. Надо ждать ответ… В который раз и сколько? Ведь еще 29 марта 1930 года, месяц назад, он обращался к правительству, но безрезультатно, хотя просил о немногом: «Если меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера… который берется поставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес вплоть до пьес сегодняшнего дня. Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя – я прошусь на должность рабочего сцены. Если и это невозможно, я прошу Советское правительство поступить со мною, как оно посчитает нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, нищета, улица и гибель… Я обращаюсь к гуманной советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя в отечестве, великодушно отпустить на свободу».
Любовь Евгеньевна продолжала вести светский образ жизни: «Я ездила в группе в манеже Осоавиахима на Поварской улице. Наш шеф Н. И. Подвойский иногда приходил к нам в манеж. Ненадолго мы объединились с женой артиста Михаила Александровича Чехова и держали на паях лошадь, существо упрямое, туповатое, часто становившееся на задние ноги. Вскоре Чеховы ускакали за границу, и лошадь была ликвидирована». Интересно, что ранее, до революции, в этом здании находилась конка, а после закрытия школы верховой езды расположился спортивный зал общества «Спартак». На этой же улице, в здании напротив останавливался в Москве у родни жены Иван Алексеевич Бунин. Довольно часто и на долгое время. Но об этом, вероятно, забыли, и вообще первому русскому лауреату Нобелевской премии по литературе только в 2007 году установили памятник.