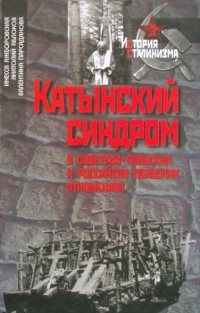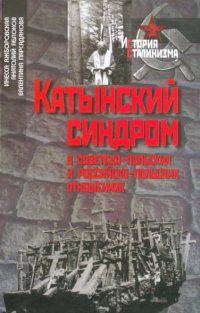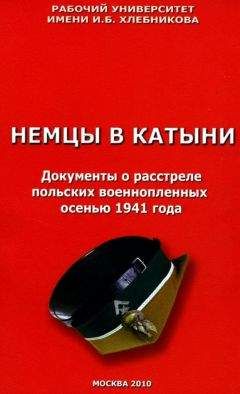Станислав Свяневич - В тени Катыни
В моей памяти полковник Кюнстлер тесно связан с бывшим командиром саперов армии Донб-Бернацкого полковником Тышиньским. Тышиньский совсем не был похож на профессионального военного, зато производил впечатление образованного инженера. С обоими, Кюнстлером и Тышиньским, я познакомился в теплушке на пути из Путивля в Козельск. Первый был молчалив и почти ничего о себе не рассказывал. Тышиньский же был разговорчив, от него я узнал, что его семья владела имением в Плебани. Это каких-нибудь километров двадцать от имения моего тестя, в том же самом Моледчном повете, где за две недели до войны я гостил с женой и детьми. Мы быстро нашли много общих знакомых. И в Козельске мы часто виделись с полковником Тышиньским, и всегда у нас находилось о чем поговорить.
Однажды в марте 1940 года я нашел его греющимся на весеннем солнышке у стены одного из лагерных бараков. Я подсел к нему и стал расспрашивать, не известно ли ему что о судьбе нескольких высших офицеров. Он ответил, что с ними ничего плохого не произошло, все они сейчас в Старобельске и с ними установлен контакт. Я уже не помню, что именно он мне тогда сказал, но в его словах чувствовался оптимизм, внушенный его последней беседой с комбригом. Это была наша последняя встреча перед ликвидацией лагеря.
Признаться, я, выехав из Советского Союза, не был сильно удивлен известием, что и Тышиньский и Кюнстлер были отобраны и из Козельска переведены в уже упоминавшуюся «виллу роскоши». В 1943 году в каирском кафе я случайно встретил полковника Кюнстлера, и он рассказал мне о своей жизни после Козельска. В Малаховке он подписал какое-то заявление в адрес советских властей, был помещен в тюрьму, а после — очутился в Грязовце.
Сейчас, спустя тридцать лет, мне представляется возможным диалектически соединить в единое целое три аспекта Катыни: саму Катынскую трагедию, Грязовец и Малаховку.
Наблюдения за пленными младшими офицерами и зарядовыми показывают, что в большинстве своем они были настроены явно враждебно и к СССР, и к коммунизму вообще. Естественно, что после уничтожения Польского государства, — а это было официальной целью Советского Союза, — они, во время создания новой польской армии, вполне могли стать источником разного рода сопротивления советской политике. Память о 1929 годе еще не выветрилась, и в лагерях было достаточно ветеранов той войны. Ну а то, как отметили пленные 19 марта 1940 года — именины Пилсудского, — ясно давало представить себе, каковы чувства ветеранов. Короче говоря, если бы Советы решились разыграть польскую карту и создали бы под своим командованием польские подразделения, у них явно не было бы избытка желающих вступить в эти части.
В последние месяцы существования козельского лагеря интерес НКВД к пленным существенно ослаб, зато возрос интерес к штабным офицерам, которых пытались склонить к сотрудничеству, сделав из них некий организационный костяк. Прежде всего это относилось к офицерам штаба армии «Пруссия», полностью, за исключением командующего, попавшим в советский плен. Именно таким образом Кюнстлер и Тышиньский оказались в группе привилегированных пленных, что, кстати, потом отразилось на их карьере в армии Андерса, особенно после ее выхода из СССР. Я нисколько не сомневаюсь, что оба они дали обширные показания, которые, видимо, и до сих пор хранятся где-то в архивах, оставшихся после нашей армии на Востоке. И безусловно, знакомство с этими показаниями могло бы пролить дополнительный свет на советское отношение к польскому вопросу в начале сороковых годов.
Понимание диалектики Катыни важно, на мой взгляд, не только для понимания советско-польских отношений, создания моральной их картины, но это и важная социологическая проблема. Понимание ее может помочь разобраться в различиях Советской России и России дореволюционной.
Политика царской России вовсе не была диалектичной. Она часто была политикой силы, но в отношении Польши она иногда смягчалась, благодаря тому, что моральные идеалы и классовая солидарность наших обществ иногда оказывалась сильнее этнических разногласий. Хотя связь нашей аристократии с аристократией российской и не могла изменить направление русской политики, но, например, действия Чарторыйского и Велькопольского часто приводили к ее смягчению в отношении Польши и ее народа.
Если говорить о противоречиях в немецкой оккупационной политике, то все они были следствием разности в целях и уровне оккупационных чиновников, а отнюдь не следствием противоречивости политики самого Гитлера, который часто вообще не имел отношения к принятию конкретных решений на этой территории. Об этом достаточно хорошо сказано в работе Александра Даллина и в повести Юзефа Мацкевича «Не надо громко говорить»1. Иными словами, беспорядочность и жестокость немецкой политики были следствием поисков единой линии, в то время как в советской политике они были следствием самой системы. Ну а в какой связи все это находится с диалектическим материализмом и его философией — это один из фундаментальных вопросов для тех, кто решил изучить коммунистическое движение и его принципы. И именно поэтому диалектика Катыни должна стать одной из важнейших тем в работе советологов.
Примечания
1. Alexander Dallin. German Rule in Russia 1941–1945. London, 1957.
Глава X. Хотел ли Хрущев сказать правду о Катыни?
Не совсем ясно и отношение советского руководства к Катынской трагедии. Ну, например, почему Хрущев не воспользовался удобным случаем и не включил ее в список преступлений Сталина, оглашенный им в своей знаменитой речи в феврале 1956 года на XX съезде КПСС?
Текст выступления Хрущева достаточно хорошо известен1. Он был почти сразу же разослан всем известным деятелям коммунистического движения и лидерам «стран народной демократии» и скоро оказался в руках западных корреспондентов. В своей речи Хрущев рассказал почти обо всех ликвидациях виднейших коммунистов во время так называемых чисток. Например, из 139 человек, избранных на XVII съезде в Центральный Комитет, 98, или 70 процентов, были арестованы и расстреляны в 1937—38 годах. А из 1966 делегатов того съезда 1108 были арестованы по различным политическим обвинениям в последующие несколько лет. Он отметил и ослабление Красной армии: из пяти маршалов трое были расстреляны2, проведены чистки и среди среднего командного состава.
После речи Хрущева среди советских военных началось движение за реабилитацию многих видных военачальников, репрессированных в сталинское время. Тогда в свет вышла книга в память маршала Тухачевского, был сделан проект памятника маршалу Блюхеру, начали производиться подсчеты числа жертв репрессий. Цифра эта, кстати, достигла тридцати пяти тысяч офицеров различных званий и рангов, физически ликвидированных в 1937—41 годах3.