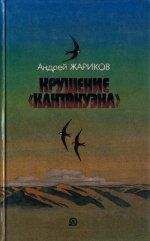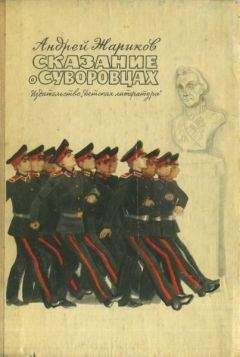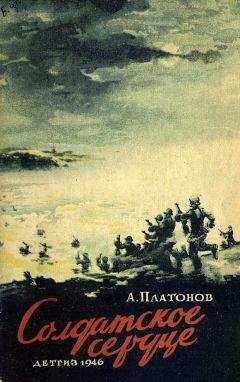Г.Гасфорд - СТАРИКИ И БЛЕДНЫЙ БЛУПЕР
Мой отец не от стыда умер. Я ведь герой.
Серф-Нацик говорит: "Валяй, давай интервью газетам. Расскажи им свои бредни. Попробуй – вдруг станешь гуру для мерзости хипповской, что против войны. Неужто корпус морской пехоты мог сделать героя из предателя? Ты храбр, ты предан, но немного запутался, вот и все. Можно понять. Просто у тебя чердак не в порядке. Винтиков не хватает".
Я говорю: "Понимаю. Вы боитесь признать, что кто угодно может решиться начать войну против вас. Идеи у людей появятся… Никогда нельзя показывать американского солдата, идущего против правительства Америки, слишком много народа спросят, почему так, слишком многие спросят, что не так, а на спуковских карандашах резинок нет".
Серф-Нацик лыбится. "А нет никаких спуковских карандашей. И спуков нет. Нас тут сроду не бывало".
– Сроду не бывало, – говорит Недостающее Звено. Он шарится в бритвенных принадлежностях на моей койке. Моя койка такая образцовая, что кинешь четвертак на одеяло – он подпрыгнет. Недостающее Звено исследует мои бритвенные лезвия, потом берет письмо, адресованное моей матери, в котором я сообщаю ей, что еще не умер, и что скоро приеду домой живым и невредимым. У нас на ферме телефона нет.
Я говорю: "Положи письмо на место, перхоть подзалупная, не то тебе обрубок шеи бинтом перемотают".
Недостающее Звено глядит на меня, ничего не говорит, затягивается разок сигаретой и бросает письмо на подушку.
– Есть пошли, – говорит Серф-Нацик. Потом мне: "Мы с тебя глаз спускать не будем".
Спуки разворачиваются на выход, и Недостающее Звено тоже говорит: "Ага, глаз спускать не будем".
Я говорю: "А мы с вас не будем глаз спускать".
* * *
Перелет на "Птице свободы" от Японии до Калифорнии в чреве "Американской крепости" – 18 часов мечты для двух сотен просоленных и продубленных вьетнамских ветеранов. До отвала холодного пива и круглоглазых стюардесс.
Может, война и похожа на сказку про Золушку, в которой мужчины превращаются в солдат, но процесс увольнения на авиабазе морской пехоты Эль-Торо, что к югу от Лос-Анджелеса – сплошная скучная и утомительная перекличка, от больших белых отделенных казарменных отсеков через сборные бараки, что раскиданы по всей базе, до красного кирпичного штаба и заново обратно.
Медобследования. Куча образцово-показательной херни, которой так любят заниматься в войсках в Америке. Выплатили жалованье – я получил накопившееся за год. Вылезли из казенного белья, деньги получили – и от солдата до насрато ровно за восемь часов, прочь из Зеленой Мамы и обратно в Мир.
Мы понимаем, что уже почти гражданские, когда нас отводят в актовый зал, и типы из полицейского управления Лос-Анджелеса произносят речь, зазывая в свои ряды.
После зазывательной речи получаем приказ направляться в соседнее здание для прохождения следующего этапа предусмотренных для нас процедур.
В здании за столами расселись крысы, шуршат бумагами, как несушки на насесте в ожидании позыва на кладку яиц.
Писарюга, крыса-служака, не отрывая глаз от бумажек, пихает мне листок бумаги, не удосужившись глаз поднять. "Это твоя ДД 214, – говорит. – Не теряй".
Жду, что дальше. Писарь-крыса не обращает на меня внимания.
– Ну, кореш, дальше-то куда?
– Чего?
– Процедуры. Куда дальше?
Писарь-крыса поднимает на меня глаза и вздыхает. Как и все гребаные крысы-служаки, он представляет собой причудливую смесь наглости и бестолковости, на его лице – неприветливая ухмылка сволочного типа, который ни за что не несет ответственности и отлично это знает. Он стар, устал от всего, и на важную персону вовсе не похож. "Господи…" – произносит он. Хмурится. Лицо у него белое, как рыбье брюшко, и усеяно красными прыщами. "А все, тупорылое созданье. Свободен". Он говорит – очень медленно, жалобным голосом человека, которому достался чересчур шустрый младший братик: "Те… бе… по… нят… но…?"
Я говорю: "И все? Больше ничего?" Заметив его ухмылку, говорю: "Слышь, братан, отвесь халявы. Я же в первый раз увольняюсь".
Крыса с надутым видом пялится на свои бумажки, меня игнорирует.
Я поворачиваюсь и направляюсь к двери. Когда я кладу руку на ручку, крыса говорит: "Если хочешь выйти с базы, бумаги надо проштамповать".
Разворачиваюсь и иду обратно к стойке: "Чего?"
Крыса поднимает печать: "Бумаги надо проштамповать, если хочешь выйти с базы".
– Ну так проштампуй. В чем дело-то, у тебя рука сломана?
Крыса сидит с надутым видом, не отвечает.
Я говорю: "Или хочешь, чтобы я тебе руку сломал?" Но я не откручиваю ему башку и не сру промеж плеч. Не мое это дело. Больше не мое.
Крыса жмется. "Я не могу проштамповать твои бумаги. У тебя бумаги не в порядке".
– Чего там не так?
– Они не в порядке.
Я стою у стойки напротив крысы и ничего не предпринимаю. Жду. Не возмущаюсь.
Война, похоже, чем хороша? – все крысы в тылу сидят. В поле, во Вьетнаме, я мог доверить свою жизнь любому хряку, пусть бы даже видел его в первый раз, и даже имени его не знал. Так славно представлять себе, что где-то есть крысы, которые шлепают туда, где их ждет какое-нибудь орудие с расчетом, но такого никогда не бывает, потому что крысы знают, как уходить от драки. Крысы знают, как сделать так, чтобы классные парни за них дрались. А потом, когда прижмет, воины конторских битв уползают под покровом ночи и пристраиваются к своим счетам в швейцарских банках.
Маленькие Гитлеры, нацисты в исполнении Уолли Кокса, крысы правят миром не за счет мужества или способностей, а благодаря примитивному весу цифр, тщательно лелеемой инертности, льстивым мифам, почитаемым всеми, и неистребимой преданности бестолковости, непробиваемой как броня. Они поубивали всех тигров, и во главе теперь стоят кролики.
Я жду. Я не спорю.
Гребаная крыса-служака говорит: "Ладно, не буду тебя напрягать. В первый и последний раз. Но в следующий раз – предупреждаю! – сначала бумаги в порядок приведи, а потом уже сюда прись".
Бумага хрустит под крысиными пальцами. Крыса с силой бьет печатью по справке об увольнении по медицинским показаниям – убедительно, как гром небесный.
– Ладно, – говорю. – Все. Можешь обратно в свою кому падать.
Покидая сборный домик и пытаясь сообразить, что именно написано в бумагах, которые у меня в руках, я слышу, как гребаная крыса-служака отвечает на замечание, отпущенное кем-то из глубины конторы. Он говорит: "Ага. Хряк тупорылый. Очередной тупорылый хряк".
В глубине конторы кто-то смеется.
На улице, в холодном свете ненастоящего солнца, я тоже смеюсь. Я не хвалю себя: "Благодарю за службу, морпех". Вместо этого я говорю себе: "Именно так".
Тащить службу в вооруженных силах своей родины – все равно, что тащиться в колонне с группой других преступников, осужденных за преступный патриотизм – за тем исключением, что в колонне тебя убивают за попытку сбежать, а в армии убивают за то, что ты там есть.