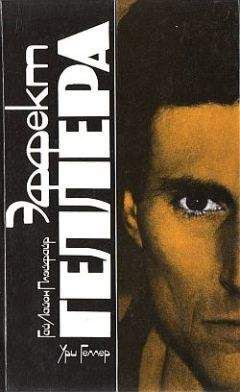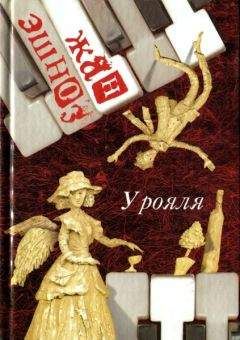Геннадий Сосонко - Мои показания
Он соблюдал правила игры: если по поводу повествований Тацита историки до сгтх пор не пришли к единому мнению, являются ли они заверениями в лояльности или хорошо замаскированным издевательством, то в писаниях Флора не следует искать двойного смысла: самоцензурой он владел не хуже любого советского журналиста.
Он всегда был готов предложить пари — на исход партии, турнира, матча, разыграть коллегу, обронить острое словцо. По окончании турнира в Гастингсе (1935) корреспондент рижской газеты Кобленц обратился к Флору с просьбой об интервью. «Поднимемся ко мне в номер, там будет спокойнее», — сразу согласился один из победителей турнира. «Which floor?» - спросил служитель в лифте гостиницы. «First, second and third with Euwe and Thomas», - отвечал Флор опешившему лифтеру.
В том же году Флор побывал на гастролях в Палестине. «Это вы тот самый Шмулик, который приезжал сюда мальчиком давать сеансы одновременной игры?» — спросили Сало. Нечего и говорить, что для всех коллег Сэмми Решевский с тех пор навсегда остался Шмуликом.
Хорошо вижу Флора в пресс-центре матча Геллер — Корчной летом 1971 года. Короткая седая стрижка, мешки под глазами, очки, поднятые на лоб. Перед ним две пишущие машинки - с русским и латинским шрифтом, к которым он поочередно прикладывается: отчеты о партии должны быть готовы уже через несколько часов. Вот он отрывается от текста и, опуская очки на переносицу, вглядывается в позицию на демонстрационной доске. Потом встает и подходит к группе коллег. Его замечают. «Что вы думаете, Саломон Михайлович, много лучше у белых?» — кто-то обращается к нему. «А вы знаете, почему у Фишера нет секундантов?» - вдруг отвечает он вопросом на вопрос. Одновременно с московским матчем в Ванкувере проходит матч Фишер — Тайманов, и все ждут новостей из-за океана. Выдержав паузу, Флор объяатяет: «Им для поездки в Канаду оформить характеристику в нью-йоркском спорткомитете не успели». И, не дожидаясь реакции слушателей, возвращается к своим пишущим машинкам.
Легким отношением к жизни и постоянными шутками он создавал впечатление жизнерадостного оптимиста, хотя оптимизм его, скорее, подходил под определение Кандида, объяснявшего своему слуге, что оптимизм - это страсть утверждать, что всё хорошо, когда на самом деле всё плохо.
Он был обидчивым и легкоранимым. В 1936 году на банкете в Ноттингеме Капабланка выступал с речью. Он сравнил этот турнир с Лондоном-1922, Нью-Йорком-1927, Москвой-1936 — со всеми, где он брал первые призы. Его прервал Флор: «А Москва 1935 года? А Маргет? А Гастингс?» — с места закричал он.
Во время матча в Багио Флор позвонил, как обычно, Смыслову и, продиктовав отложенную позицию, поинтересовался ее оценкой. «Ну а что эксперты говорят?» — спросил в свою очередь экс-чемпион мира. «Эксперты? Да какие еще могут быть эксперты! Мы вот с вами и есть самые главные эксперты! Скажет тоже, эксперты. Эксперты, эксперты...» - еще долго ворчат он.
Мог выговорить мечтательному Аронину, забывшему поздороваться с ним, а Спасский вспоминает, что, зайдя как-то в ЦШК, он увидел Флора и Кереса. «Привет старинным игрокам!» — приветствовал он обоих. Керес спокойно и с юмором отнесся к словам Бориса, но Флор почему-то вспылил: «А ты сам-то кто такой? Мелкий игрочишка, не более...»
Впервые я увидел Сало Флора в сентябре 1965 год в Сухуми, где проходило всесоюзное студенческое первенство. Знаменитый маэстро, отдыхавший тогда в Абхазии, появился на пляже в легком белом костюме и с панамкой на голове. Его, конечно, все узнали, появились шахматы, и кто-то из участников турнира тут же спросил у Флора мнение об эндшпильной позиции, встретившейся у него накануне. Флор задумался на мгновение, а затем показал удивительный маневр слона, позволяющий решающим образом усилить давление на центральную пешку. Наблюдая за анализом молодых, он ничего не говорил, только изредка улыбался, следя за мельканием рук над доской, и только иногда, в случае слишком уж порывистого хода пешкой, указывал пальцем на соседнее поле, отдающееся в вечное владение неприятелю. Жест, который я перенял у него и употребляю до сих пор при анализе с молодыми шахматистами.
Он приезжал довольно часто в Голландию, и мы виделись: на турнире в Тилбурге, где он гостил несколько дней вместе со своей второй женой Татьяной, племянницей Есенина, или в офисе ФИДЕ, расположенном тогда в Амстердаме. В последний раз - ранней весной 1983 года, за несколько месяцев до его смерти.
Мы встретились на площади в центре города и медленно прошли вдоль цветочных лотков, расположенных прямо на канале, до Монетной башни. Маленький, кругленький, седые, сильно поредевшие волосы, мешочки под слезящимися глазами, выцветшие зрачки, фазаньи складки кожи на подбородке, старомодный костюм, классический галстук, манжеты, запонки - он уже не был похож на Чарли Чаплина, скорее его можно было принять за рантье или служащего банка, наслаждающегося заслуженным отдыхом последнего периода жизни. Он останааливался то и дело, чтобы купить семена цветов, луковицы тюльпанов — друзьям на дачу, сувениры, подарочки: бело-голубые чайные полотенца с мельницами, брелоки для ключей, футболки «Аякса» — обычный туристский набор. «Ну, кажется, никого не забыл», — он заглядывал время от времени в длинный, заготовленный еще в Москве список.
Помимо шахматного был у Флора еще один дар. не многим данный: дар дарить. С этим чувством - дарения - рождаются, и не случайно во многих языках мира слово это - «дар» - имеет два значения. Когда его благодарили, он не понимал за что, хотя и мог бы сказать, как говорил изменившийся Дон Кихот: «Полноте, друзья мои, какой я рыцарь Ламанчский, я просто - Алоизо Добрый».
Мы прошли до конца цветочного базара и остановились у отеля «Карлтон», где в ноябре 1938 года Сало Флор присугствовал при переговорах Алехина и Ботвинника о матче на первенство мира. Его собственный, подписанный пол гола назад контракт потерю! всякий смысл: война в Европе становилась реальностью.
«Чемпион мира был в прекрасном настроении, даже сам заплатил за чай, — Флор улыбнулся, — это было на него совсем не похоже: Александр Александрович нелегко расставался с деньгами». Разговор зашел об Эйве, Ласкере, Капабланке, потом о Кмохе и Тартаковере. Для него история шахмат была не писаной книгой, а прожитой жизнью, и он дошел до той возрастной черты, когда прошлое будоражит сильнее настоящего, не говоря уже о будущем.
Иногда он спрашивал меня: «А вы помните Земиша?» или «Вы застали еще Боголюбова?» Как многие старики, он не учитывал возраста собеседника. Ему было тогда семьдесят четыре, он давно уже почувствовал ускорение времени, и дистанция в десять — пятнадцать лет не казалась ему таким уж долгим сроком, но те предвоенные десять лет, полные замечательных триумфов, растянулись для него на бесконечные годы. Это был лучший период его жизни, когда молодость, здоровье, успех и свобода слились в одно, и он с удовольствием возвращался в разговоре к людям того времени.