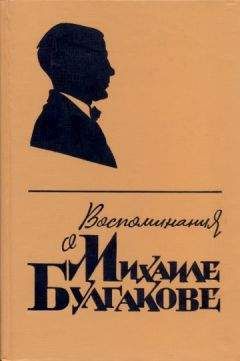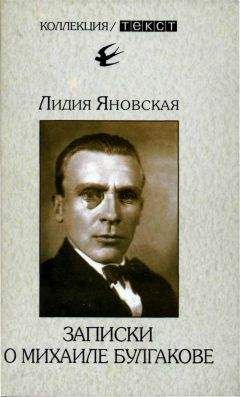Сергей Ермолинский - О времени, о Булгакове и о себе
Прошло лет восемь, и уже в другой моей жизни я снова встретила Ермолинского, и мы познакомились уже по-настоящему, надолго. И опять это была весна, май, цветущая, благоуханная Ялта. Я туда не приехала, а приплыла пароходом из Одессы, чтобы работать с В. А. Кавериным над экранизацией его «Открытой книги». Как красиво, литературно это сейчас звучит — морским путем, из Одессы в Ялту, к знаменитому писателю… На самом деле я опять была «женщиной на грани нервного срыва» — в Одессе в четвертый раз решалась судьба моего замученного сценария, из которого впоследствии вышел фильм «Долгие проводы», и она опять не решилась, запуталась между Госкино, студийными интригами, Одесским обкомом. Я оставляла доведенную до отчаяния Киру Муратову в последней надежде — сценарий мурыжили уже четвертый год. Я взяла отдельную каюту, чтобы выспаться, вылечится от всей этой скверны, а ко мне вдруг подселили массовичку-затейницу, пьяненькую и тоже на грани срыва, и они с баянистом репетировали песни у меня над головой, а потом всю ночь она горько рыдала над своим провалом, и рыжий болтливый администратор отпаивал нас коньяком. Она всхлипывала — «я, наверное, слишком академична», и вдруг взвизгивала, топтала свое вечернее платье — «Не хочу, не могу, не буду! Я боюсь их, я их боюсь!» Она боялась публики, проклинала «маскульт» и клялась, что в последний раз… Она была моим кривым зеркалом, я молча проклинала кино и тоже клялась, что в последний раз, допивая скверный коньяк большими глотками, чтобы девушке меньше досталось.
В таком виде я, шатаясь, сошла с корабля, чтобы предстать перед Вениамином Александровичем Кавериным отличником сценарного цеха, молодым профессионалом, со свежим взглядом и конструктивным мышлением. На самом деле хотелось кричать — «не могу, не хочу, не буду!», забросить подальше эту толстую книгу, выспаться и исчезнуть. Ни выгодный договор, ни райские кущи престижного писательского дома не соблазняли меня, и взялась-то я за эту работу с сомнением, ради знакомства с Кавериным.
Но там, в райских кущах, за одним столом с Кавериным и его женой Лидией Николаевной я увидела Ермолинского и жену его Татьяну Александровну. Про нее я много слышала и не могла оторвать от нее глаз. Насмешливая, чуть высокомерная, она, тем не менее, создавала уют и покой. Они дружили с Кавериными, она называла их «дядя Веня» и «баба Лида», в общем, любила подтрунивать над людьми так, что никто не обижался, а напротив, все хотели попасть в зону ее насмешек. Каверин говорил, что она талантлива, и ей непременно надо написать книгу. Литература была для них делом священным, превыше всего. Сценарные мои терзания понимал только Ермолинский. Он был мэтр, его звали, платили, но все сужался круг возможностей. После 1968-го года, когда наши танки вошли в Чехословакию, мы окончательно поняли, в какой стране живем. Так называемая «оттепель» кончилась, последние остатки иллюзий рушились грубо и зримо. У стариков, умудренных опытом еще худших времен, мы искали ответа и совета — как жить, можно ли жить вообще, служить, но не прислуживаться? Помню, Каверин хвастался — «а у меня нет ни одной ненапечатанной строчки», — когда ему рассказывали про зарубленные заявки и сценарии. В десять утра он ежедневно садился за стол и, если побаливала голова, писал хоть что-нибудь, например, письма. Он повел меня в библиотеку и выбрал сам — что из его собрания сочинений прочитать. А про последнюю книжку — «Перед зеркалом» — выспрашивал с пристрастием, записывал замечания, — он готовил ее к переизданию. В тот момент он уже не сочинял ничего «игрового» — переключился на воспоминания. Как когда-то, в критический момент, «когда русская проза ушла в лагеря», догадался стать детским писателем и написал незабываемые «Два капитана». И гордился, что нашел свою «нишу» — как теперь говорят, а тогда появилось словечко «щель». Перехитрив судьбу, можно и классиком стать. Я невольно — и наивно — сравнивала счастливую судьбу Каверина и переломанную — Ермолинского. «Что ж, это чистая работа», — говорил Сергей Александрович про «Открытую книгу», которую предстояло нам экранизировать в двух сериях для режиссера В. Фетина и артистки Л. Чурсиной. Прямо скажем, — смиряя гордыню: я выросла из этой книги, тем более — Каверин дал мне почитать документы и много рассказывал про подлинную историю пенициллина, про Ермольеву и своего брата Зильбера, который из тюрьмы передавал на папиросной бумаге «вирусную теорию рака», он знал из первых рук всю страшную, погромную историю медицины при Сталине, и в голове у меня не укладывалось, как мог он адаптировать этот трагический материал в занимательную, романтически-«подростковую» книгу, а нам еще предстояло ее адаптировать для кино, и лучше бы мне не знать, как оно было на самом деле. А Ермолинский сказал — «чистая работа». Я в этом сомневалась, да и теперь сомневаюсь. Но ему следовало верить — он уже однажды, за несколько лет до этого, «зарубил» мою заявку на «Мосфильме». Убедительно и нелицеприятно. И я не только не обиделась, но премного ему благодарна. И должна рассказать эту отдельную, мимолетную историю как штрих к портрету Ермолинского-редактора.
А дело было так. Мне дали на студии интересный материал про город Темир-Тау и познакомили с интересным человеком — бригадиром каменщиков Димой Оськиным, который прошел много строек и вел дневники, а в Темир-Тау оказался корреспондентом многотиражки, увидел, что творится вокруг, как наживаются на комсомольском энтузиазме хапуги-начальники, и душа его содрогнулась. А писал он только от души — чистую правду. И я написала от души подробную заявку про правдолюбца, праведника, и как он всех выводил на чистую воду, и ему это почти удалось. Правда, жизнь продолжила этот сюжет малопригодным для советского кино трагическим апофеозом в Темир-Тау. Не знаю, как сейчас называют это историки, но тогда об этом можно было только шептаться, официальных сообщений не было, а я узнала правду от того же Димы Оськина, оказавшегося в эпицентре событий. Он приезжал в Москву — правду искать. Наивно вооружившись документами и бухгалтерскими отчетами, пытался идти законным путем организованного рабочего контроля. Разумеется, потерпел поражение. Голодный бунт в Темир-Тау списали на уголовников — они пошли громить магазины. А проворовавшееся начальство ушло в Москву, на повышение.
Разумеется, кино про Диму Оськина не могло состояться, его бы закрыли на любом этапе. Худсовет был готов одобрить мою обстоятельную заявку, меня вызвали в Москву из Питера для подписания договора, но вдруг самый старший и самый мудрый из коллегии — Ермолинский — пресек поток всеобщего одобрения и угрюмо сказал: «Ничего из этого не выйдет. Вы здесь смягчите, здесь сбалансируете, а режиссер возьмет белозубого красавца на главную роль, и будет очередная отрава про рабочий класс». Так и сказал — «отрава» — и заставил себя посмотреть в глаза несчастному автору — то есть мне, прибежавшей прямо с поезда заключать договор, и, стало быть, получать аванс. Уж от него-то я не ожидала подобного удара — после тех майских каникул на берегу моря, под пение Окуджавы… Но он был непреклонен и убедил коллегию, что начинать эту работу нельзя. Потом отвел меня в сторону и повторил уже наедине, не стесняясь в выражениях, что меня ждет, если я влезу в эту остросоциальную тему — на радость студии — про рабочий класс! Они-то галочку поставят, а потом будут мурыжить сценарий до полного изничтожения, и приличный режиссер за него не возьмется, а какой-нибудь конъюнктурщик сделает отраву… У меня уже был подобный опыт: сценарии от варианта к варианту испускали дух и списывались за полной никчемностью. А мы, как бабочки на огонь, летели на договора и авансы — на «авось», по молодой дурости. Ермолинский меня пожалел. Теперь-то я ясно понимаю, что он спас мне года два жизни. Давно понимаю. А теперь понимаю, чего ему стоил этот заурядный день на «Мосфильме», куда как приятней сказать «да!», и все довольны, и день пролетел в улыбках и комплиментах. А суровое «нет» требует объяснений — дотошной аргументации и душевных сил. Помню — вся коллегия мигом разбежалась — сконфуженно, пожимая плечами, мол, старик «рогом уперся», а ему досталось объясняться с автором. Впрочем, я была уже понятливой и плакать не собиралась. А из всего кладбища похороненных заявок и сценариев я никогда не пожалела только об этом «рабочем корреспонденте». Действительно, села «не в свои сани». Действительно, «взрослые» иногда правы, когда «добра нам желают». Я бы напрочь забыла этот досадный эпизод своей сценарной биографии, если б не подружилась потом с Ермолинским. Он помнил. И в весенней Ялте при Каверине, при Татьяне Александровне нет-нет да и вставлял доброе словечко обо мне как о сценаристе. Чтобы уважали. Чтобы человек, «в дальнейшем именуемый Автор», как пишется в договоре, мог сам себя уважать: «держать марку», не бросаться на любую работу, беречь свое имя.