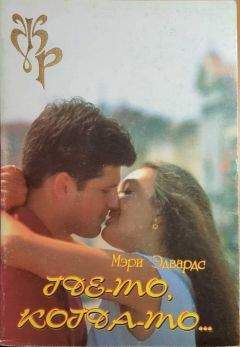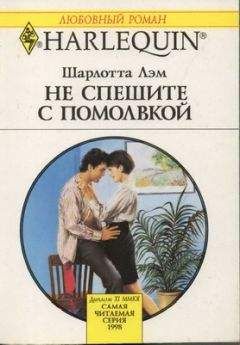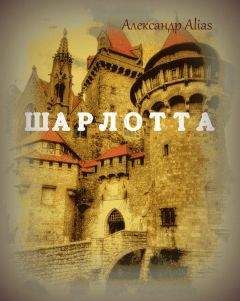Андрей Чегодаев - Моя жизнь и люди, которых я знал
20/III—45
Наташенька и Машукушка, милые, любимые! Сегодня ровно месяц, как я уехал, и ровно месяц ничего о вас не знаю. Правда, никто еще из нашей группы не получал писем из Москвы. Очень скучаю и беспокоюсь, сплю плохо — все стараюсь представить себе, что у вас делается. Работаем с утра до ночи, так что несколько дней не мог даже письма успеть написать. Устаю жестоко, но зато результаты очень успешные. Сегодня напишу письмо подлиннее. Живу все там же, здоров — все в порядке, были бы только письма. Пробуду здесь еще долго — на днях делали отчет генералу и получили полное одобрение, так что будем только расширять работу. Но мне иногда утром кажется, что я проснусь в Москве и все будет обычно, как всегда там, а не тут. Я очень тоскую без вас. Целую вас обеих крепко — крепко. А.
23/III–45
Наташенька и Машукушка, милые, любимые!
Стараюсь терпеливо дожидаться писем и все же очень тоскую без них. По моим расчетам, я не могу получить раньше 25–27–го числа при самых благополучных условиях, но как трудно долго ждать! Уже больше месяца как я уехал. В половине апреля, возможно, ненадолго приеду в Москву, по крайней мерс генерал так требует, и ясно, что это совпадает с моим желанием. Работы неимоверно много, и результаты обильные. Если не качественно, то количественно. По правде сказать, пока еще не слишком все это увлекательно, но поездку свою, тем не менее, я уже оправдал стократно. Жизнь моя за последнюю неделю довольно монотонная, очень напряженная и физически трудная, но интересная все‑таки достаточно. Немного не в порядке сердце, но ничего особенного ни со здоровьем, ни с повседневным существованием нет, все в порядке в конце концов, только устаю. Блаженствую из‑за собственного автомобиля с отличным шофером — все делается в десять раз быстрее, чем раньше. Особенно когда приходится ездить в другие города. Каждый день слушаю радио из Москвы — на днях слушал высказывания Солодовникова о современной русской опере, где поминались обе оперы Александра Борисовича. Как поживает папа, приходит ли он, здоров ли? Я жду от тебя тысячу подробностей о вашей жизни и от Машукушки особо — пиши побольше. Но впрочем, может быть, я действительно буду в Москве раньше, чем дойдут сюда ваши письма. Но если так будет, я прочту письма потом, не жалко. Мне очень хочется съездить в Москву, тем более что потом, очевидно, снова сюда поеду.
Я в прошлый раз обещал для Машукушки написать еще об одной курьезной истории, которую рассказывал здесь поэт К. Симонов. В Румынии он встретил двух наших выздоровевших раненых, которые в каком‑то городишке с невероятной щедростью скупали на румынские левы (деньги) чуть ли не все содержимое одного магазина. Он спросил их, откуда у них такое богатство и почему они тут околачиваются. Они сказали, что выписались из госпиталя и ищут свою армию. Симонов с удивлением возразил, что эта их армия под Ленинградом, а не в Румынии. Тогда они сообщили ему следующую историю: их выписали из госпиталя откуда‑то из Средней Азии и поручили им попутно доставить на фронт двенадцать верблюдов. Десять верблюдов у них по дороге подохли, а двух оставшихся они обрядили в попоны и, забредши в Румынию, показывают торжественно этих верблюдов румынам, как, якобы, участвовавших в обороне Сталинграда! Румыны идут толпой — во- первых, потому, что не видели никогда верблюдов, во- вторых — магически действует имя Сталинграда даже в такой неожиданной и нелепой комбинации!
Чего только не бывает на белом свете! Мне приходится встречаться с множеством самого разнообразного народу, какого только душе угодно. На днях меня отыскал майор из штаба генерала, увидевший мое имя в списках и приехавший со мной повидаться. Это оказался двоюродный брат Лазаря Шоломовича! Помнишь, я писал о пингвине на Южном полюсе? Это, видимо, вовсе не фантастическое предположение, а самая прозаическая реальность. Передай по этому случаю привет Лазарю Шоломовичу. Его кузен был так ласков и приветлив, что я воочию увидел, сколько, должно быть, настоящей привязанности и нежности в рассказах Лазаря Шоломовича о нас и обо мне в частности.
Получили ли вы все мои письма? Это, как будто, уже тринадцатое по счету, если я не сбился. Так что в среднем выходит одно письмо в каждые два дня почти. Я хочу столько же получить от вас. Всем от меня кланяйтесь, потому что я никому больше не пишу, нет времени. Я на днях начал — по десять строчек зараз! — читать то, о чем мечтал чуть не пятнадцать лет безнадежно: стихи Райнера Марии Рильке. И мои ожидания не обмануты. Кстати, на днях я у него нашел чудесный перевод лермонтовского «Выхожу один я на дорогу»! Но читать тоже некогда.
Я так стараюсь все время представить себе, как вы живете. И беспокоюсь — бесформенно, но тоже все время.
Я очень хочу вас видеть. Целую вас обеих крепко — крепко тысячу миллиардов раз. А.
Поцелуй Виктора Никитича, Веру Николаевну, Алпатова. И еще специально Татьяну Борисовну — я о ней почему‑то много думал сегодня.
1/IV-45
Наташенька и Машукушка, мои милые, любимые!
Это письмо, вероятно, дойдет быстрее, потому что будет опущено в Москве (наш генерал едет туда). Я не писал несколько дней — все ждал, не будет ли письма от вас, но так и не дождался еще ни одного. Правда, никто из нашей группы еще не получил тоже, так что этим я утешаюсь, но очень скучаю и тоскую без писем. Отсутствие всяких сведений о вас — самое трудное в моем путешествии и пребывании здесь, на фронте, — все остальное пустяки, хотя и утомительные физически.
Работы уйма, и конца ей не видно, поэтому планы вернуться в Москву в апреле очень неопределенные. Может случиться, что мы (закончив первый этап работы) приедем в Москву для отчета и для решительной реорганизации всего плана нашей деятельности, но, может быть, в Москве и сами сообразят, что делать, и пришлют нам людей и инструкции. Тогда я могу застрять здесь еще на 1 [27]/2— 2 месяца. Втроем работать немыслимо, это на годы, а не на месяцы дела. Но в Комитете как всегда удивительно легкомысленно и беспечно обо всем думают. Если бы у меня было хоть три помощника (а надо бы тридцать!), как, например, хоть те же Суздальцев, или Сатель, или Володин* — я бы сделал вдесятеро больше и в двадцать раз скорее. Слава богу, у нас есть автомобиль, а то раньше и его не было. Мы живем все время на одном месте, в одной и той же специальной гостинице, и уже отсюда ездим по всему фронту, на 30–50—200 и т. д. километров, куда нужно. Поэтому моя жизнь представляет сочетание очень однообразного и устойчивого бытового распорядка (с одинаковым каждый день, если не ночуем где‑нибудь в другом городе, что бывает редко, — чередованием вставания, умывания, еды и отъезда на нашей машине, с установившимися привычками, в одной и той же комнате и т. д.) и чрезвычайно пестрой смены дорожных впечатлений, самых разнообразных и неожиданных. Жалко, что я не могу в письмах описывать свои приключения, более конкретно и подробно — приеду, расскажу. Основное — одинаково всегда: почти без исключения (хотя бывают и они!) очень приятные встречи с нашими — русскими — людьми — хороших людей сколько угодно и они много помогают — и, с другой стороны, постоянное и лишь углубляющееся и укрепляющееся резко отрицательное впечатление от Германии.