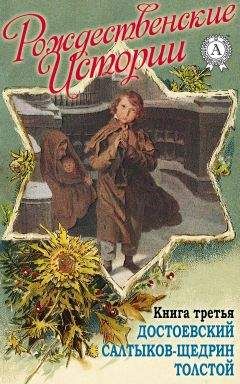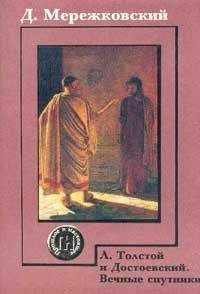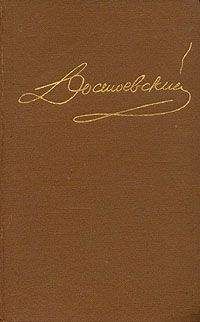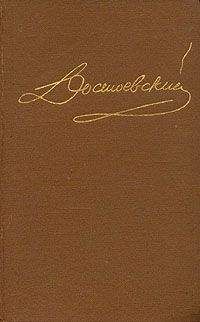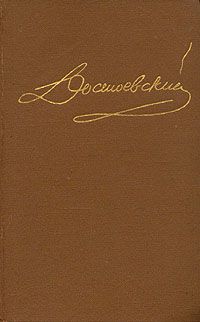Толстой и Достоевский. Братья по совести (СИ) - Ремизов Виталий Борисович
«На конверте письма Шпигановича помета Толстого: Спросить у Душана, кто это?
Ответ на письмо от 6 октября 1910 г. Владимира Ивановича Шпигановича из Воронежа, в котором он писал об одном враче, стремившемся переменить свой обеспеченный образ жизни и уйти жить среди бедноты и встретившем противодействие жены и детей. В своем письме Шпиганович ссылался на слова из поучения старца Зосимы в романе Достоевского «Братья Карамазовы» (82, 184).
«Летят дни без дела. Поздно встал. Гулял. Дома Софья Андреевна опять взволнована, воображаемыми моими тайными свиданиями с Чертковым. Очень жаль ее, она больна. Ничего не делал, кроме писем и пересмотра предисловия.
Ездил с Душаном очень хорошо. После обеда беседовал с Наживиным (Иван Федорович — писатель, в определенный период жизни разделявший взгляды Л. Н. Толстого, автор статей и воспоминаний о нем. — В. Р.). Записать:
1) Любовь к детям, супругам, братьям это образчик той любви, какая должна и может быть ко всем.
2) Надо быть, как лампа, закрытым от внешних влияний — ветра, насекомых и при этом чистым, прозрачным и жарко горящим.
Все чаще и чаще при общении с людьми воспоминаю, кто я настоящий и чего от себя требую, только перед Богом, а не перед людьми» (58, 117).

И. Ф. Наживин
«Наживин [198] говорил о своем неутешном горе (умерла их четырехлетняя девочка).
Софья Андреевна рассказала: когда в 1895 г. умер Ванечка, Л. Н. опустился на диван и сказал: «Безвыходное положение, потому что я думал, что это единственный ребенок, который будет продолжать мое дело на земле».
Л. Н.: Тяжелее смерти ребенка ничего нет. Какая там виселица!
Софья Андреевна: Дети — мечта, какая не сбывается.
Беседа Л. Н. с Наживиным о писателях:
— Пушкин удивителен. Молодой человек — какая серьезность. Гоголь, Достоевский, Тютчев. Теперь что́ из русской литературы стало! Все эти… Сологубы… Это от французской литературы можно было бы ожидать, но от русской — никак.
Наживин: «Ничего не вырабатывается!» — 500 рублей за лист вырабатывается.
Л. Н.: Я думаю, что́ теперь есть в литературе? Как был натурализм в гоголевское время после карамзинской напыщенности. Что теперь вносится?
Наживин: Декадентство, хаос.
Л. Н.: Вы — молодой человек, скажите, что там находится нового? Я не могу разобраться. Что? Такое сомнение по отношению ко всему, разрушение авторитетов.
Наживин: Разрушение буржуазной морали.
Л. Н.: Разрушать буржуазную нравственность, которая говорит, что можно обижать людей и вместе с тем ходить в церковь.
Наживин: Они ее не разрушают. Они так же живут, получая 500 рублей за лист.
Булгаков: По содержанию ничего нового нельзя указать. Чтобы они учили жизни, этого нельзя сказать. Но у них есть таланты.
Л. Н.: У кого?
Булгаков: Я назвал бы Арцыбашева, Куприна, обладающих талантом, но небольшим. Андреев не обладает талантом.
Л. Н.: Он затрагивает какие-то вопросы, которые он сам не понимает. И всякое искусство не терпит посредственности, а поэзия совсем не терпит.
Наживин: Бальмонт — это не русская литература» (Маковицкий Д. П. Кн. 4. С. 376).
«Встал поздно. Тяжелый разговор с Софьей Андреевной. Я больше молчал. Занимался поправкой О Социализме. Ездил с Булгаковым навстречу Саше (навстречу А. Л. Толстой, ездившей в Тулу к врачу. — В. Р.). После обеда читал Достоевского [199]. Хороши описания, хотя какие-то шуточки, многословные и мало смешные, мешают. Разговоры же невозможны, совершенно неестественны. Вечером опять тяжелые речи Софьи Андреевны. Я молчал [200]. Ложусь» (58, 117).
«Все не бодр умственно, но духовно жив. Опять поправлял о социализме. Все это очень ничтожно. Но начато. Буду сдержаннее, экономнее в работе. А то времени немного впереди, а тратишь по пустякам. Может быть, и напишешь что-нибудь пригодное.
Софья Андреевна очень взволнована и страдает. Казалось бы, как просто то, что предстоит ей: доживать старческие годы в согласии и любви с мужем, не вмешиваясь в его дела и жизнь. Но нет, ей хочется — Бог знает чего хочется — хочется мучить себя. Разумеется, болезнь, и нельзя не жалеть [201]» (58, 117–118).
«Л. Н. сейчас читал Достоевского («Братья Карамазовы») [202]:
— Отвратителен. С художественной стороны хороши описания, но есть какая-то ирония не у места. В разговорах же героев — это сам Достоевский говорит. Ах, нехорошо, нехорошо! Тут семинарист и игумен, Иван Карамазов тоже, тем же языком говорят. Однако меня поразило, что он высоко ценится. Эти религиозные вопросы, самые глубокие в духовной жизни — они публикой ценятся. Я строг к нему именно в том, в чем я каюсь, — в чисто художественном отношении. Но его оценили за религиозную сторону — это духовная борьба, которая сильна в Достоевском. Я как раз читаю художника (французского писателя), в котором никакого (религиозного) содержания (вероятно, Мопассан. — В. Р.). Но художественное не терпит посредственности; тут нужно, чтобы это было такое, чтобы читатель перенесся в это, переживал то, что автор» (Маковицкий Д. П. Кн. 4. С. 381–382).
«Л. Н. встал бодро, читает «Карамазовых» Достоевского и говорит, что очень плохо: где описания, там хорошо, а где разговоры — очень дурно; везде говорит сам Достоевский, а не отдельные лица рассказа. Их речи не характерны» [203]
«Встал в 8, ходил по Чепыжу (участок леса в Ясной Поляне. — В. Р.). Очень слаб. Хорошо думал о смерти и написал об этом Черткову. Софья Андреевна пришла и все также мягко, добро обходилась со мной. Но очень возбуждена и много говорит. Ничего не делал, кроме писем. Не могу работать писать, но слава Богу, могу работать над собой. Все подвигаюсь. Читал Шри Шанкара (индусский религиозный философ. — В. Р.). Не то. Читал Сашин (дочери. — В. Р.) дневник. Хорошо, просто, правдиво. Был Перпер (Иосиф Иосиевич — вегетарианец, редактор журнала «Вегетарианское обозрение», автор ряда статей по вегетарианству и воспоминаний о Толстом. — В. Р.). и Без. из Ташкента (личность не установлена. — В. Р.). Я говорил с Перпером дурно, напрасно горячился. Ложусь спать — слаб. Близкой смерти не противлюсь» (58, 118–119).