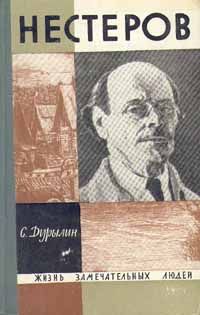Сергей Дурылин - Нестеров
Но и в самом прекрасном покое своем, в утренний час перед трудовым днем, Павлов на нестеровском портрете не мыслитель-созерцатель, а воинствующий боец.
На лице Павлова и на всей его фигуре – отпечаток светлой бодрости. Этот человек переживает весну своего творчества. Нестеров всегда был чуток на красоту старости. На портрете Павлова Нестеровым заново найдена эта красота старости, присущая русскому человеку, честно завершающему свой жизненный путь в строгости к себе и в непоколебимой верности своему призванию. В благообразии лица и седин Павлова есть что-то роднящее его с величаво-добрыми и простыми старческими лицами из народа. Но на его лице так явственно выражено сияние большого интеллекта. Лицо одухотворено пытливой мыслью, неразлучной спутницей всей этой восьмидесятишестилетней жизни. Ни следа мыслительных разочарований, тревог, борений нет на этом лице. Все это уже в прошлом. Теперь все осветлено радостью обретенной истины, чувствуется, что этим старым человеком – этим мудрецом – мир и человек, несмотря на все противоречия бытия и бури истории, приняты до конца, чувствуется, что непоколебима его вера в победу человека над «звериным способом решения жизненных трудностей».
В своих «темпах», с которыми Нестеров спешил написать портрет Павлова, художник не обманулся: не прошло и года, как Иван Петрович Павлов скончался.
Михаил Васильевич тяжело пережил смерть Павлова. В августе 1936 года он писал мне:
«Вот я на днях еду в Колтуши, заранее зная, что и там найду пустое место, ибо душа Колтушей отлетела, ее нет там сейчас, и я буду слоняться там же, не находя того, чего уж нет».
Вскоре после кончины Павлова Нестеров написал третий портрет с него – литературный. И если второй живописный портрет, в красочной репродукции, украсил собой первый же том посмертного издания «Трудов» И.П. Павлова, то без третьего, литературного, портрета не обойдется ни одна книга о Павлове – человеке и ученом: столько тончайшей наблюдательности и мудрой любви вложено Нестеровым в этот портрет.
Когда появился второй портрет Ивана Петровича Павлова, он произвел сильнейшее впечатление. Добивались его видеть ученые, актеры, журналисты – все, кто чтил великого ученого, и все, кому дорого было его имя.
За портрет И.П. Павлова – как за лучший образец волевого портрета, столь близкого нашей эпохе строительства новой жизни, – Нестеров при первом присуждении Государственной премии в 1941 году получил премию первой степени.
Портрет получил широкое распространение во множестве репродукций. Но и тут Нестеров остался самим собой: когда одно издательство предложило ему крупную сумму за право первого издания портрета Нестерова, Михаил Васильевич ответил решительным отказом, сказав: «Мое дело – написать портрет, а издает его пусть всякий, кто хочет!» Ему было дорого, что его портрет замечательного русского человека станет свободным достоянием русского народа.
В августе 1931 года я получил от Нестерова грустное письмо:
«Что сказать вам о себе? Живу, доживая свой век, иногда работаю, но мало. И что особенно досадно – то, что портрет, задуманный мной на это лето, не написался: модель, Ольга Михайловна Веселкина, в Муранове проболела больше месяца и вчера уехала на место службы».
Речь шла о давней знакомой Нестерова, любимой его собеседнице, занимавшей кафедру иностранных языков в одном из высших технических институтов в Свердловске. Он даже делал наброски для портрета О.М. Веселкиной, но остался ими недоволен. Далее он писал мне:
«Мы, однако, от мысли о портрете не отказались. Если будем живы, здоровы и проч., то приступим к написанию его на будущий год… Это все же утешение, а то подумайте, ни одного портрета за весь год!»
Это было уже в горесть и в горечь «непортретисту» Нестерову.
Во второй половине 1931 года он успокоил свою тревогу в работе над портретом сына, Алексея Михайловича Нестерова.
Алеша Нестеров остался жить во многих образах на полотнах своего отца.
С него писан в 1916 году тот мальчик, которому принадлежит, в замысле художника, первое место на картине «Душа народа». В 1921 году Нестеров писал с сына юношу, играющего на свирели, который появлялся несколько раз на картинах 1921–1923 годов. В 1922 году с сына написал крестьянина на пашне на картине «Вечерний звон».
На всех этюдах, вошедших в эти картины, Нестеров искал в сыне черты русского мальчика и юноши с глубокою внутренней жизнью, с заветной мечтой в душе, с сердцем, навсегда подернутым облаком грусти. Художник не ошибался, извлекая все это из внутреннего облика своего сына. В сыне художника – по специальности он был коневод – жил настоящий поэт. Он тонко чувствовал поэзию русских степей. Его влекло работать на уединенных степных конных заводах, среди табунов, теряющихся в диком ковыле. Он чувствовал и любил это русское приволье в степных просторах, в удали протяжной русской песни, в неутолимой грусти и вольности поэзии Лермонтова.
Он сам писал стихи с несомненным талантом.
Но Нестерова влекло к сыну и как портретиста. Он, по верному замечанию Е.П. Нестеровой в одном из писем ко мне, «всегда восхищался его лицом, вполне сознавая его некрасивость». В молодом лице этом не было ничего расплывчатого и тусклого. Его можно было любить или не любить, но его нельзя было не заметить, а раз увидев, не запомнить. Это было одно из тех неповторимо характерных лиц, которые так любил Рембрандт: прирожденный портретист не может не плениться их сумрачным своеобразием.
Осенью в 1940 году, когда А.М. Нестеров был уже болен туберкулезом, я записал в свой болшевский дневник:
«Был Алеша. Он очень худ. Михаил Васильевич смотрел на него с любовью, заботой и тревогой и вдруг сказал:
– Как легко тебя писать! Бери краски и пиши – только и всего. Все ясно в лице. Все ярко. Белки как у Отелло».
Еще в 1919 году, в Армавире, Нестеров написал два портретных этюда с сына; они писались с одного-двух сеансов и были отзвуками на вот такое, чисто художественное впечатление от лица сына.
В январе 1929 года Михаил Васильевич сообщал мне, по обыкновению в третьем лице: «Нестеров, говорят, пишет портрет с сына». В феврале он писал: «Слышно, вами любимый портретист написал портрет со своего «единственного». По обыкновению, говорят, «приукрасил» и вышел сущий Дориан Грей».
Мне не пришлось видеть этого портрета, но полуироническое упоминание о том, что сын превратился будто бы в утонченного эстета, в героя романа Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», не предвещало доброй судьбы этому портрету. Действительно, Михаил Васильевич его уничтожил, находя очень слабым.
А к работе с сына он вернулся в конце 1931 года. Это был этюд головы в профиль, возникший почти случайно. «Сын, – рассказывает Е.П. Нестерова, – вернулся из командировки от Зоотехнического института в Рязанскую губернию измученный, наголодавшийся, он сидел в нашем черном кресле у стола. Михаилу Васильевичу понравилось освещение и его цвет лица, и он написал этюд в несколько сеансов – 3–4, не больше 5».