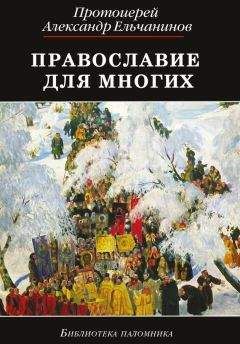Екатерина Старикова - В наших переулках. Биографические записи
Но в тридцать девятом году летопись ведется полным ходом. И я все чаще замечаю, что то, что я успела или сумела записать, приобретает какую-то значительную законченность в моем сознании и памяти, что я становлюсь властной над чем-то, иначе неуловимо протекающим мимо.
26Летом я прекращала вести дневник. И дома, в нашей комнате, трудно было уединиться, но у моих домашних уже создалась привычка не мешать мне в моих письменных упражнениях. Летом же совсем стало невозможно их продолжить. И таким образом, ни политические события летних месяцев тридцать девятого года, ни соображения, по которым я отложила вступление в комсомол, в мой дневник не попали. Мы снова лето должны были провести на Косой Горе. «Детей» отвезли туда раньше, я самостоятельно приехала туда позднее.
Ехала я на поезде прямо до Ясной Поляны. Здания станции, кажется, тогда там не было? Но нет, ведь Толстой ездил за почтой именно на эту станцию, тогдашнюю Козловку, где моя свекровь однажды в детстве держала под уздцы его лошадь. Но в тридцать девятом году я еще не знала этой будущей для меня семейной истории и, не думая ни об истории, ни о Толстом, я спрыгнула из вагона прямо на пути и тут же увидела, как навстречу мне мчатся три загорелые детские фигуры в одних трусах. Но кто же есть кто? Этот, сгоревший до черноты, неужели Андрей Турков? Такой длинный? А тот, посветлей, Алеша? Или Алеша последний, но где же тогда маленькая Лёля? И кто же третий? Но все были на месте, все, сбивая меня с ног, кинулись на меня, просто они выросли с прошлого лета, когда я видела их вместе раздетыми. За детьми следовала Мусенька, Мария Николаевна. Она-то как раз по сравнению с детьми стала совсем маленькой. И голова засеребрилась. Мальчики подхватили мои немудреные вещички, и мы двинулись на Косую Гору прямо пешком по тропинке сквозь цветущий луг.
Так и запомнилось мне это косогорское лето росистыми лугами. Лето тридцать восьмого — знойной сухостью августа, лето тридцать девятого — влажной душистостью июня.
В отличие от веселья прошлого лета, это оказалось элегически тихим, поэтическим. Не приехала Ирина, и наш волейбол как-то увял. Сразу же по приезде я узнала, что и Толи тоже нет на Косой Горе: с группой однокурсников от отправился в пеший поход по Крыму — тогда это было модно. На мгновение меня кольнуло огорчение, но я тут же утешилась: ведь в июле и я поеду в Крым! Папе обещали для меня путевку в пионерский лагерь на берегу моря. А пока буду наслаждаться всем, что дарит Косая Гора. Ведь здесь старики Краевские принимают меня за взрослую! «Мальчики, пейте молоко. А ты, Катюша, будешь чай или кофе?» Я высовываю язык мальчикам. В апреле мне уже исполнилось пятнадцать, а Андрею будет пятнадцать только в конце августа. Это ли не преимущество? Я пользовалась им вызывающе открыто. Обижался ли на меня Андрей? Не знаю. Кто в таком возрасте считается с мнением младших братьев?
В то лето мы вдруг увлеклись дальними утренними прогулками без взрослых. С вечера сговаривались со Стечкиными и на рассвете, тихо выскользнув из постелей, не умываясь и не завтракая, отправлялись каждый раз в разном направлении: то по зеленым оврагам с голубыми высокими колокольчиками, то в светлые липовые рощи за Ясной Поляной, то в заброшенные, бывшие помещичьи яблоневые сады. Теперь и Лёля часто присоединяется к нам. Привлекали нас в этих путешествиях не только прелесть природы, но и дружелюбное общество старшей молодежи, и необычно раннее пробуждение, и возвращение под пекущим уже солнцем домой, где нам разрешалось самостоятельно и без всякого этикета завтракать. А как мы ели! Батоны исчезали один за другим, и всегда находилась для нас какая-нибудь вкусная еда. Впрочем, какая еда нам тогда была невкусна?
В середине июля я уехала в Москву, где папа снарядил и отправил меня в Крым. Я не буду здесь описывать эту поездку. Кто захочет, может прочесть мой рассказ «Кучук-Узень», там всё описано почти точно, только одна-две фигуры придуманы и чуть сдвинуто время моего путешествия к концу лета. Здесь же я постараюсь коротко объяснить (и для самой себя), чем важна оказалась для меня эта поездка.
В Кучук-Узене я впервые встретилась с морем и южной природой, с чужеродным говором и нравами (симферопольские школьники, в основном, еврейские, и местные, татарские). Я впервые почувствовала на собственном опыте, что живу в пестрой многонациональной стране. Впервые же я увидела, что нашему домашнему неприятию режима противостоят не только партийные функционеры, но и искренний и мощный энтузиазм моих ровесников, убежденных комсомольцев, ничем не подкупленных и мне симпатичных. А с другой стороны, я здесь почувствовала хоть и скрытый, но органичный протест и против пренебрежения советской власти некоторыми укорененными национальными обычаями. Я оказалась перед необходимостью самой, без подсказки и споров, разобраться в узле угадываемых мною противоречий. К тому же я вплотную столкнулась с проблемами своего повзросления — с его опасностями и искушениями, и с этим тоже должна была самостоятельно справиться. Неудивительно, что месячное пребывание в пионерском лагере осталось в моей памяти целой отдельной эпохой. Я вернулась на Косую Гору другой, чем уезжала оттуда.
Я сошла с симферопольского поезда на этот раз в Туле, где меня встречали мама и Мусенька. В руках у меня был чемоданчик, полный кучукузеньского винограда, и авоська, оттянутая до земли двумя большими желтыми дынями. Виноград был дареный, а купленными дынями я очень гордилась: возвращаюсь в родные пенаты, как взрослая, с подарками. А ведь это надо было умудриться с моими-то деньжонками приехать с угощением! На пороге косогорского дома я протянула дыни дяде Сане, а следом за этим ему же вручила открытый чемодан с виноградом — так я благодарила хозяина дома за гостеприимство. Дядя Саня принял подношения и решительно заявил, к разочарованию детей, что пировать мы будем вечером, а Мусеньке что-то тихо шепнул. И вот уже ею откуда-то извлечена мороженица, мальчиками принесен из погреба лед, и они усажены за трудную, но многообещающую работу: крутить мороженое. Устройством пира занялся сам дядя Саня. И то, с каким удовольствием и даже увлечением делал это он, всегда молчавший, всегда занятый, довольно часто сердитый, — в этих его хлопотливых стараниях вдруг промелькнуло для меня то, что так тщательно скрывалось: усталость от вынужденной изоляции, от провинциальной скуки, оторванности от привычного общества и образа жизни. В его веселых хлопотах вокруг стола я вдруг увидела (или вспомнила?) его прошлого, таким, каким он был до ареста и ссылки: известного московского врача, любителя театра, охотника, окруженного такими же энтузиастами этого дела, тонкого гастронома и франта, главу и покровителя большого родственного клана.