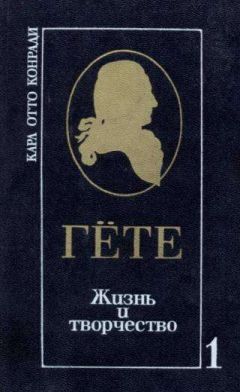Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни
Весной 1801 года здоровье Гёте заметно пошло на поправку, и он стал чаще бывать в своем имении в Оберроссле, в марте и апреле он провел там больше месяца. Ему было предписано лечение на водах, и в начале лета он на многие недели уехал в Пирмонт в сопровождении сына Августа и секретаря Гайста. Поездку, начавшуюся 5 июня, Гёте использовал, с тем чтобы дважды заехать в Гёттинген, причем на обратном пути из Пирмонта он задержался там на целых четыре недели — с середины июля до середины августа. В Гёттингене представилась возможность встретиться и побеседовать с университетскими учеными, а богатая библиотека облегчила ему дальнейшую разработку истории учения о цвете. И в Пирмонте, где день начинался с приема минеральной воды и купаний, он уделял время занятиям естествознанием и диктовал Гайсту. Находились здесь и интересные камни, так что мог развлечься и Август, которому скоро должно было исполниться двенадцать лет. «Сегодня четыре недели как ты уехал, но для меня как будто три месяца прошло», — писала ему 3 июля Кристиана. Вместе с Мейером она выехала потом навстречу возвращавшимся мужу и сыну и остановилась, поджидая их, в Касселе, где 15 августа они отметили свою встречу после разлуки в здании почты на Кёнигсплац. «Пять по большей части дождливых и неприятных недель в Пирмонте, зато пять — поучительных и доставивших удовольствие — в Гёттингене», — сообщал он о своих впечатлениях Фрицу Якоби (23 ноября 1801 г.).
Собрания по средам и песни для дружеского круга
Со сколькими людьми ни встречался и ни переписывался Гёте, в глубине души он все же нередко испытывал чувство одиночества. Гумбольдт впоследствии тоже полагал, что Гёте недостает равновесия, что у него слабые корни в действительной жизни, а «идеальное» вдохновляет лишь в моменты восторга, в обыденной же и внешней жизни оно совершенно не помогает. «Поскольку он не сходится с людьми, то и другие не могут сближаться, именно эта неспособность вынуждает его быть одиноким» (В. фон Гумбольдт своей жене, 31 июля 1813 г.). Может быть, это неизменно возвращавшееся чувство одиночества побудило Гёте организовать в октябре 1801 года кружок друзей, который стал собираться у него каждые четырнадцать дней после театра. Возможно, он надеялся, что в веселом обществе сможет отвлекаться на время от мрачных мыслей, от всего, что угнетало его. Одновременно встречи в дружеском кругу как форма общения могли восполнить скудость общественной жизни в маленьком Веймаре. Одна из участниц кружка оставила сообщение, как возникли эти «среды». В один из тех дней, в которые сходился дружеский круг у Луизы фон Гёхгаузен в ее мансарде в наследном дворце, Гёте оживленно заговорил о том, что он называл скудостью нынешнего общественного состояния: мол, повсюду наталкиваешься на духовное убожество и равнодушие, и предложил организовать «по образцу миннезингеров cour d'amour»,[58] кружок, состоящий из пар, проводящих время в приятных беседах и находящих удовольствие от общения друг с другом. Так и сделали. Генриетта фон Эглофштейн, которой принадлежит это сообщение, составила пару с Гёте; в числе других шести пар были Каролина фон Вольцоген и Шиллер, Луиза фон Гёхгаузен и Генрих Мейер, Лотта Шиллер и Вильгельм фон Вольцоген. К кружку присоединялся иногда герцог и наследный принц. О Кристиане в этой связи нет никаких упоминаний. И все же эти вечера, по-видимому, не проходили в истинно непринужденной атмосфере. Госпожа фон Эглофштейн, например, жаловалась на педантичность Гёте: «Без разрешения мы не могли ни пить, ни есть, ни вставать или садиться, не говоря уже о том, чтобы вести беседу, как кому нравилось, Гёте неизменно направлял разговор, как хотелось ему». Зато Шиллер, сообщавший о кружке Кёрнеру, отмечал, что «время проходит очень весело» и мы «усердно поем и пьем» (16 ноября 1801 г. — Шиллер, VIII, 808). То, что там пелось, не имело никакого отношения к тем рассуждениям об эстетических принципах, которые велись в то же самое время в кружке «Пропилей». Удивительным представляется это соединение столь разных занятий в одно и то же время, что, по-видимому, не требовало от Гёте особых усилий. И все-таки это не должно удивлять, ведь стихотворениями, которые им писались для этих случаев, он поддерживал только традицию, издавна близкую ему: традицию песни, предназначавшейся для исполнения в дружеском кругу людей, разделяющих образ мыслей и настроения. С ранней юности он сочинял стихи, которые задумывались как песни, то есть писались с целью переложения их на музыку либо в расчете на определенную, уже существующую мелодию. Таким было первое напечатанное собрание гётевских стихотворений «Новые песни, положенные на музыку» Бернхардом Теодором Брайткопфом (1770). В песнях подобного рода Гёте, следуя традиции, прибегал также к уже известным текстам, переделывал их, дополнял новыми элементами, то есть создавал подтекстовку нового текста к известной мелодии (Kontrafaktur). В последнем прижизненном издании раздел стихотворений открывается 80 песнями, из которых не менее 16 или 17 являются переложениями известных текстов. То, что подобные стихотворения должны были петься, для Гёте было само собой разумеющимся, они предназначались для любительского исполнения в дружеском кругу или на фортепиано. Его критика дилетантизма в очерках, набросанных в период издания «Пропилей», была строгой лишь в теоретическом аспекте. Вслед за «Песнями» помещался раздел «Песен для дружеского круга», который открывался эпиграфом: «То, что будем вместе петь, / Нам должно сердца согреть».
Даже в некоторых стихотворениях «Западно-восточного дивана» за философской подоплекой чувствуется песенная основа. Стихотворение «Земною тварью был Адам» («Создать и оживить») предназначено для застольного веселья («Для доброго дела собрались мы тут, / Друзья мои! Ergo bibamus!»[59] — Перевод А. Глобы — 1, 275), также и стихотворение «Дивана» «Кельнеру. Трактирщику» («Эй, ты, негодяй, / Не можешь поставить ты вежливей кружку?!», вошедшее затем в качестве «Песни турецкого трактирщика» в сборник студенческих застольных песен, где, однако, «красивый мальчик» превратился в «красивую девочку».
Ко всей застольной лирике Гёте, которая часто и несправедливо не принимается во внимание, можно было бы поставить в качестве девиза длинное стихотворение 1813 года «Открытый стол»:
Пусть друзья ко мне идут,
Уж пора садиться!
Много выставил я блюд —
Дичи, рыбы, птицы.
Запируем до зари,
Чу! звонок в передней.
Ганс, сходи-ка, посмотри,
Кто придет последний?
(Перевод А. Гугнина)
Для этих «сред» Гёте написал несколько стихотворений по конкретному поводу, например «Песня на основание кружка», «К Новому году!» (Старый уходит / Новый приходит, / На перепутье / Радостным будь»), «Весеннее пророчество» (с намеками на «Волшебную флейту», а также на «Песню на основание кружка»), «Всеобщее покаяние» («Выслушайте, о, друзья, / Каюсь перед вами я»), которое должно было напоминать «Gaudeamus igitur»,[60] «Застольная» («Дух мой рвется к небесам / В заблужденье странном»), переработанная «Песнь содружества» 1775 года, начальные строки которой провозглашают культ дружеской песни: