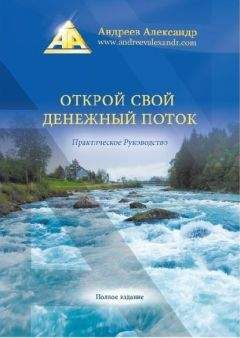Вадим Андреев - История одного путешествия
Можно изучить все теории стихосложения, прочесть и Тынянова, и Эйхенбаума, и Жирмунского, и Шенгели, — больше того, их необходимо знать для того, чтобы они отложились в подсознании, как человеку необходимо уметь плавать, чтобы пересечь реку, — но самой природы творчества, свойственной каждому пишущему стихи, они не изменят, потому что за каждым поэтом стоит человек во всей своей индивидуальной особенности.
Написанное стихотворение, если только оно не мертворожденное, начинает жить своей собственной жизнью с того момента, когда автор сделал последнюю поправку. Поправка, сделанная позже, когда уже спала волна эмоционального подъема, породившего стихотворение, — нечто вроде хирургической операции на лице, уже прожившем некоторое время, на котором жизнь положила следы. На стихотворении появились морщинки, количество их связано с тем сроком, который прошел после того, когда автор почувствовал, что лучше он сделать не может. Большой нос можно сделать маленьким, но тогда изменится только внешность человека, а не его психика. Исправленное стихотворение должно быть не столько исправленным, сколько написанным заново. Как при переводе с одного языка на другой, где нужна не только близость к подлиннику, но проникновение в самую звуковую и ритмическую сущность оригинала. Стихотворение необходимо «перетворить». «Из пламя и света рожденное слово» — это грамматическая ошибка, но какое счастье, что Лермонтов, когда ему сказали, что нельзя сказать «из пламя», не смог или не захотел изменить строки. Исправь он ее, может быть, мы потеряли бы одно из самых совершенных и таинственных своим очарованием стихотворений, какие только были созданы на русском языке.
Для автора, однако, жизнь стихотворения и дальнейшая его судьба после того, как оп его кончил, в большой степени зависит от того, напечатано оно или нет. До того, как стихотворение напечатано, каждая его строка соединена с автором незримой пуповиной. Часто нужны долгие годы, прежде чем стихотворение оторвется и заживет своей собственной жизнью, независимо от воли поэта, — мироощущение поэта не статично, оно меняется, иногда качками, иногда непрерывным потоком, в соответствии с тем как отражается окружающая жизнь на жизни поэта. Кроме того, поэту, пишущему потому, что он не может не писать, но пишущему не для себя, необходимо знать, что дошло до читателя и дошло ли вообще. Написанное, но не напечатанное стихотворение нет-нет да подаст свой голос, и его звук, вырвавшийся из подсознания, мешает работе. Труднее становятся поиски формы, нового слова. Вся сила творчества заключается в непрерывном искании, в погоне, до последнего дня своей жизни, за созданием лучшего стихотворения. Для того, чтобы поэт был свободен в своих поисках, ему нужно реже оборачиваться на самого себя и прислушиваться к тому, что было уже сказано, постоянно находиться в состоянии некоей новорожденности. Опыт прошедших годов обогащает, он позволяет освободиться от косноязычия, ведет к простоте, но этот опыт есть только средство, а не суть поэзии.
По счастью, «Свинцовый час» — так я назвал первую книжку — вышел в начале 1924 года, и поэтому мне легче было оторваться от стихов, в нее вошедших, чем если бы они продолжали лежать в ящике письменного стола. Для меня книжка не стала однодневкой — она скорее стала одногодкой, — но уже с первых дней ее появления я почувствовал, что она — пройденный этап, что я должен писать не так, как писал в 1923 году. Для меня «Свинцовый час» стал первой ступенью лестницы, на которую я мечтал взойти.
Напечатанные стихи раздражали, особенно те, в которых я чувствовал, что не справился с подхватившей меня лирической волной и язык, не став «вместилищем красоты и смысла», со всего размаха бросает меня на затвердевший песок да еще сверху прикрывает горькой пеной, в которой я задыхаюсь. Мне стали казаться неоправданными перебои ритма, даже те, которые я принимаю теперь:
Слова пушистые и легкие, как пряжа,
Как протаявший снег на моей земле,—
Разве выскажешь ими соленую тяжесть
Нагих и голодных лет?
Я жаловался да неумение сказать просто, чувствуя, что косноязычье становится самоцелью:
Обруч — мое косноязычье,
Слова — как слипшийся комок.
О, боль повторять по привычке
Только мертвую тень строк.
И когда уже после выхода «Свинцового часа» я писал:
И озарясь, и озираясь, — зорче, зорче,
Уже добрел до бреши бред —
Ты сердце, точно раковину створчатую,
Девятым валом выбрасываешь на брег, —
мне сразу становилось ясно, что асе эти «з» и «б» — пройденный путь, и я без труда отказывался от этих строчек.
Все же, несмотря на недостатки моей первой книжки, у меня впервые создалось впечатление, что я оторвался от трамплина подражательства. Конечно, я иногда чувствовал влияние чужих стихов, тех, которые я повторял про себя с наслаждением, но это были уже не «чужие паруса», как сказал за год перед тем Шкловский, а связь со всей созданной и создававшейся вокруг меня русской литературой, связь, которая не оборвалась и теперь. И так же, как теперь, я сознавал, что последние, оправдывающие всю жизнь строчки еще не написаны.
В начале 1924 года газета «Накануне» закрылась. Для нашей группы это было неожиданностью: о том, что газета может закрыться, начали говорить сразу после того, как Алексей Толстой уехал в Россию, но мы этому не верили. С закрытием «Накануне» исчезла единственная газета, в которой мы печатались.
Вскоре германская марка, дойдя до биллионов и даже триллионов — нулей было столько, что они не помещались на дензнаке, — стабилизировалась, и стипендия Уиттимора стала иллюзорной. Я начал залезать в долги уже нечем было платить фрау Фалькенпггейн за комнату. Комитет, управлявший судьбами уиттиморовских стипендиатов, решил перевести по чисто экономическим соображениям (во Франции жизнь оказалась дешевле, чем в Германии) студентов в Париж. Изменились и условия выдачи стипендии, которую мы стали получать только за месяцы учения — с ноября по июнь, — остальное время года предстояло зарабатывать на жизнь самим. Мне удалось добиться, чтобы меня оставили до конца учебного года в Берлине: я был уверен, что со дня на день получу советский паспорт и смогу вернуться в Россию. Володю Сосинского, как нового студента, еще по-настоящему не начавшего своего учения, переправили в Париж сразу же, в марте. Его отъезд больно отозвался на мне — за полгода нашей совместной жизни у фрау Фалькенпггейн мы привязались друг к другу. Все, что мы ни писали, немедленно поступало на совместное обсуждение. Разгорались споры, — по очереди мы доказывали, что один из нас ровно ничего не понимает в искусстве, но потом, пока еще не схлынуло волнение, вызванное работой, вносили поправки. Как всегда, Володя увлекался безудержу и с ловкостью фокусника находил в стихах и прозе различных авторов «гениальные строки» и «гениальные мысли». Однако Володины увлечения не были постоянны — очень скоро он мог не то чтобы отречься, а как-то забыть о «гениальности» защищаемого им произведения и найти новую необыкновенную книгу. Его оценки всегда были интересны тем, что он умел открыть лучшее из всего, что можно было найти в его очередном увлечении. Володины записные книжки разбухали с невероятной быстротой.