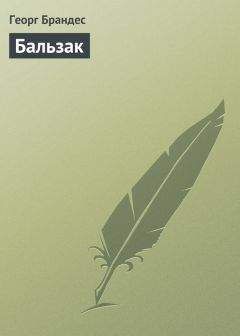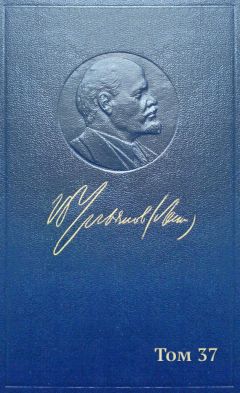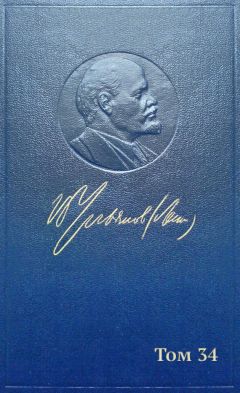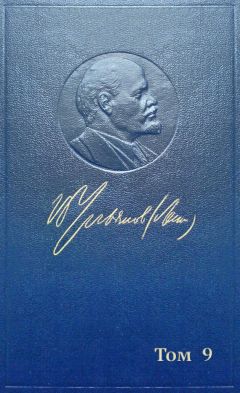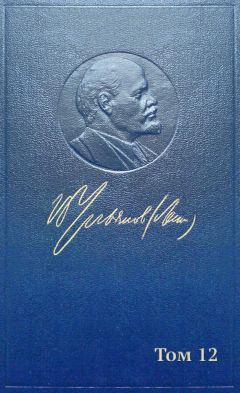Владимир Ленин (Ульянов) - Полное собрание сочинений. Том 1. 1893–1894
Каким же образом наш трудовой крестьянин изменит это отношение, когда он сам одной ногой стоит на той именно почве, которую и нужно изменять? как может он понять негодность обособленности и товарного хозяйства, когда он сам обособлен и хозяйничает на свой риск и страх, хозяйничает на рынок? когда эти условия жизни порождают в нем «помыслы и чувства», свойственные тому, кто поодиночке работает на рынок? когда он раздроблен самыми материальными условиями, величиной и характером своего хозяйства, и в силу этого его противоположность капиталу настолько еще не развита, что он не может понять, что это именно – капитал, а не только «пройдохи» да ловкие люди?
Не очевидно ли, что следует обратиться туда, где это же (nota bene[168]) общественное отношение развито до конца, где члены этого общественного отношения, являющиеся непосредственными производителями, сами уже окончательно «дифференцированы» и «отлучены» от буржуазных порядков, где противоположность уже развита так, что ясна сама собой, где невозможна уже никакая мечтательная, половинчатая постановка вопроса? И когда непосредственные производители, стоящие в этих передовых условиях, будут «дифференцированы от жизни» буржуазного общества не только в факте, но и β своем сознании, – тогда и трудовое крестьянство, поставленное в отсталые, худшие условия, увидит, «как это делается», и примкнет к своим товарищам по работе «за чужой счет».
«Когда у нас говорят о фактах покупки крестьянами земель и объясняют, что крестьянство покупает землю и в личную собственность и миром, то никогда почти не добавляют к этому, что мирские покупки составляют только редкое и ничтожное исключение из общего правила личных покупок».
Приведя далее данные о том, что число частных землевладельцев, достигавшее 103158 в 1861 г., оказалось 313529, по данным 60-х годов, и сказав, что это объясняется тем, что второй раз сосчитаны мелкие собственники из крестьян, которые не считались при крепостном праве, автор продолжает:
«это и есть наша молодая сельская буржуазия, непосредственно примыкающая и соединяющаяся с мелкопоместным дворянством».
Правда, – скажем мы на это, – совершенная правда, – особенно насчет того, что она «примыкает» и «соединяется»! И поэтому к идеологам мелкой буржуазии относим мы тех, кто придает серьезное значение (в смысле интересов непосредственных производителей) «расширению крестьянского землевладения», т. е. и автора, говорящего это на стр. 152-ой.
Поэтому-то и считаем мы не более как политиканами людей, разбирающих вопрос о личных и мирских покупках так, как будто бы от него зависело хоть на йоту «водворение» буржуазных порядков. Мы и тот и другой случай относим к буржуазности, ибо покупка есть покупка, деньги суть деньги в обоих случаях, т. е. такой товар, который попадает лишь в руки мелкого буржуа[169], все равно, объединенного ли миром «для социального взаимоприспособления и солидарной деятельности» или разъединенного участковым землевладением.
«Впрочем, она (молодая сельская буржуазия) тут далеко еще не вся. «Мироед» – слово, конечно, не новое на Руси, но оно никогда не имело такого значения, какое получило теперь, никогда не оказывало такого давления на односельцев, какое оказывает теперь. Мироед был лицом каким-то патриархальным, сравнительно с настоящим, лицом, всегда подчинявшимся миру, а иногда просто лентяем, особенно и не гнавшимся за наживой. – В настоящее время слово мироед имеет другое значение, а в большинстве губерний оно сделалось уже только родовым понятием, сравнительно мало употребляется и заменяется словами: кулак, коштан, купец, кабатчик, кошатник, подрядчик, закладчик и т. д. Это раздробление одного слова на несколько слов, слов, отчасти тоже не новых, а отчасти совершенно новых или доселе не встречавшихся в крестьянском обиходе, показывает прежде всего на то, что в эксплуатации народа произошло разделение труда, а затем на широкое разрастание хищничества и на специализацию его. Почти в каждом селе и в каждой деревне есть один или несколько таких эксплуататоров».
Бесспорно, что этот факт разрастания хищничества подмечен верно. Напрасно только автор, как и все народники, несмотря на все эти факты, не хочет понять, что это систематическое, всеобщее, правильное (даже с разделением труда) кулачество есть проявление капитализма в земледелии, есть господство капитала в его первичных формах, который, с одной стороны, постоянно высачивает тот городской, банковский, вообще европейский капитализм, который народники считают чем-то наносным, а с другой стороны, – поддерживается и питается этим капитализмом, одним словом, что это – одна из сторон капиталистической организации русского народного хозяйства.
Кроме того, характеристика «эволюции» мироеда даст нам возможность еще уличить народника.
В реформе 1861 г. народник видит санкцию народного производства, усматривает в ней существенные отличия от западной.
Те мероприятия, которых он теперь жаждет, равным образом сводятся к подобной же «санкции» – общины и т. п., к подобным же «обеспечениям наделом» и средствами производства вообще.
Отчего же это, г. народник, реформа, «санкционировавшая народное (а не капиталистическое) производство», привела только к тому, что из «патриархального лентяя» получился сравнительно энергичный, бойкий, подернутый цивилизацией хищник? только к перемене формы хищничества, как и соответствующие великие реформы на Западе?
Отчего думаете вы, что следующие шаги «санкции» (вполне возможные в виде расширения крестьянского землевладения, переселений, регулирований аренды и прочих несомненных прогрессов, но только прогрессов буржуазных), – почему думаете вы, что они поведут к чему-нибудь иному, кроме дальнейшего видоизменения формы, дальнейшей европеизации капитала, перерождению его из торгового в производительный, из средневекового – в новейший?
Иначе не может быть – по той простой причине, что подобные меры нисколько не задевают капитала, т. е. того отношения между людьми, при котором в руках одних скоплены деньги – продукт общественного труда, организованного товарным хозяйством, – а у других нет ничего кроме свободных «рук»[170], свободных именно от того продукта, который сосредоточен у предыдущего разряда.
«…Из них (из этих кулаков и т. д.) не имеющая капитала мелюзга примыкает обыкновенно к крупным торговцам, снабжающим их кредитом или поручающим им покупку за свой счет; более состоятельные ведут дело самостоятельно, сами сносятся с большими торговыми и портовыми городами, отправляют туда от своего имени вагоны и сами отправляются за товарами, потребными на месте. Садитесь вы на любую железную дорогу и вы непременно встретите в III классе (редко во II) десятки этого люда, отправляющегося куда-нибудь по своим делам. Вы узнаете этих людей и по особому костюму, и по крайней бесцеремонности обращения, и по резкому гоготанью над какой-нибудь барыней, которая просит не курить, или над мужичком [так и стоит: «мужичком». К. Т.], отправляющимся куда-нибудь на заработки, который оказывается «необразованным», потому что ничего не понимает в коммерции и ходит в лаптях. Вы узнаете этих людей и по разговору. Разговаривают они обыкновенно: о «курпеях», о «постных маслах», о коже, о «снетке», о просах и т. п. Вы услышите при этом и цинические рассказы об употребляемых ими мошенничествах и фальсификациях товаров: о том, как солонину, давшую «сильный дух, сбыли на фабрику», о том, что «подкрасить чай всякий сумеет, ежели раз ему показать», что «в сахар можно вогнать водою три фунта лишнего веса на голову, так что покупатель ничего не заметит» и т. д. Рассказывается все это с такой откровенностью и бесцеремонностью, что вы ясно видите, что люди эти не воруют в буфетах ложек и не отвертывают в вокзалах газовых рожков только потому, что боятся попасть в тюрьму. Нравственная сторона этих людей ниже самых элементарных требований, вся она основана на рубле и исчерпывается афоризмами: купец – ловец; на то и щука в море, чтобы карась не дремал; не плошай; присматривайся к тому, что плохо лежит; пользуйся минутой, когда никто не смотрит; не жалей слабого; кланяйся и пресмыкайся, когда нужно». И дальше приводится из газетной корреспонденции пример, как один кабатчик и ростовщик, Волков, поджег свой дом, застрахованный в большую сумму. Этого субъекта «учитель и местный священник считают самым уважаемым своим знакомым», один «учитель пишет ему за вино все кляузные бумаги». «Волостной писарь обещает ему опутать мордву». «Один земский агент и в то же время член земской управы страхует ему старый дом в 1000 р.» и т. д. «Волков – явление вовсе не единичное, а тип. Нет местности, где бы не было своих Волковых, где бы не рассказывали вам не только о подобном же обирании и закабалении крестьян, по и о случаях подобных же поджогов…»