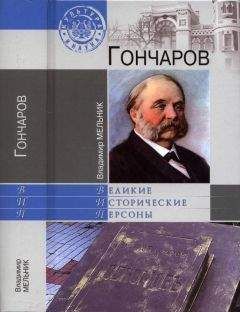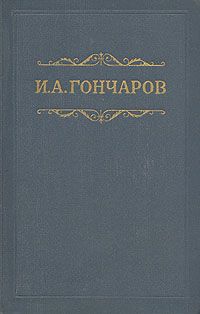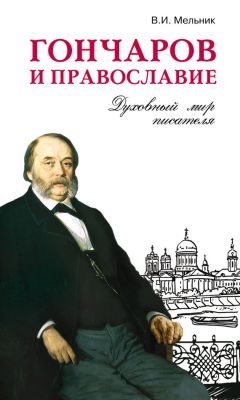Юрий Лошиц - Гончаров
Трудна, во многом непривычна для Гончарова атмосфера этих месяцев. Характер его раздумий о случившемся, поиск глубинных обоснований взятой на себя воспитательной миссии отражены в его большом письме к Екатерине Никитенко от 4 июня 1878 года (то есть за два почти месяца до поступления девочки в училище; корреспондентка его живет в это время на родительской даче в Павловске, при ней находится и Саня)[15].
«У меня опять накопился целый пакет, — начинает Иван Александрович, — щетки, губки, вода для чистки волос Сани, — и между прочим кое-какие книги — но я не знаю, когда мне удастся взять с собою. Матери ее некогда поехать в эту минуту, а мне надо прежде поехать в Царское Село и уже оттуда к Вам — поэтому с пакетом туда, да потом в Павловск будет неудобно. Но у ней все нужное есть — поэтому она подождет. Если в пятницу или субботу я и загляну, то с пустыми руками, да и to не наверное, ибо хотя от погоды мне и легче, но немного: только не гнет в дугу — но боюсь, что это опять до первого дождя. К тому же я продолжаю пить и воды, следовательно, разъезжать мне не совсем свободно».
За строками проглядывает какая-то неуверенность (ехать — не ехать?), какое-то беспокойство, почти раздражение. Чувствуется, что Гончаров с немалым усилием осваивает новые свои обязанности; на каждом шагу они ставят его в тупик; он теряется и не может решиться сразу на тот или иной вариант.
Но стоит ему от перечисления бытовых обстоятельств перейти к своей, волнующей его сейчас теме, как резко меняется и тон повествования.
«Между тем, чтобы не забыть при свидании — я теперь же хочу сказать несколько слов в дополнение к тому разговору, который завязался между мною и Вами на пути к вокзалу — и не кончился. Я очень рад, что Вы затронули этот предмет, а у меня давно лежало на душе высказать мои мысли Вам — так как Вы с некоторых пор взяли на себя величайшую и благороднейшую из обязанностей человека — руководить воспитанием юношества в раннем возрасте. Едва ли найдется кто-нибудь способнее Вас ввести в жизнь ребенка, девочку. Простите, если я выскажусь несколько против совместного воспитания с девочками чужих, мальчиков, не братьев. Я — как музыку слушал Ваши слова о том, что единственный и лучший путь к тому — любовь к детям. Я всегда это проповедовал всем, кто хотел меня слушать, и между прочим родителям моей любимицы Сани, упрекавшим меня, что я балую ее, и также ее брата и сестренку.
Я доказывал и доказываю, что баловство со всех сторон, и притом глупое, é la madame Простакова в Недоросле, конечно губительно, но умное, тонкое и доброе баловство с одной какой-нибудь стороны необходимо: оно и не баловство, а любовь.
Отец у Сани был равнодушный и грубоватый отец: дети были ему в тягость, он их гонял от себя прочь, а иногда и пощелкивал. Мать — умная, попечительная, исполненная любви к детям мать, но такой любви, которую они оценят в зрелом возрасте. Она им варит суп, шьет, моет, работая с утра до вечера — и некогда и нечем ей баловать их, даже не до ласк. Л луч явной теплой любви откуда-нибудь да должен падать на детские головки, и как солнечный луч — греть их на заре жизни, не потрясая нерв ранними бурями, давая развиться зародышам телесных, умственных и нравственных сил! Какие же добрые и нежные руки нужны — именно в самом раннем возрасте — чтоб приготовить из детей — не забитых и загнанных трусов или приниженных, оскорбленных, малодушных, фальшивых, людей, а настоящих, честных., мужественных, стойких в жизни, и притом добрых, приученных к исполнению всякого долга — мужчин и женщин? Ваши руки, сколько я вглядываюсь — именно такие. Мне кажется, Вы угадали Ваше призвание: и если из Ваших рук выйдут хоть два — три, четыре (чем больше, тем лучше конечно) ребенка, — Ваша задача жизни выполнена со славою. У Вас — как я вижу — все делает любовь: она помогает и науке, сохраняет и здоровье, развивает, растит, заменяя собою все, даже розгу, ибо любовь — всемогуща».
Здесь важно уточнить, какой именно смысл вкладывает Гончаров в понятие «любовь». Смысл этот, как увидим дальше из письма, целиком и полностью вытекает из объективно-идеалистических представлений, характерных для мировоззрения стареющего писателя. Причем гончаровский идеализм вовсе не восходит к какой-либо из систем новоевропейской философской мысли (кантианство, гегельянство и т. д.), а ориентируется на догматику и этику православно-христианcкого учения. Как известно, в свете этой этики «любовь» осознается не как естественно-стихийная привязанность человека к человеку (более или менее корыстная) и не как самодеятельное альтруистическое, филантропическое поведение, но как объективный, независимый от человеческой воли закон бытия («Бог есть любовь»), который распространяется на всю сотворенную природу, в том числе и людскую природу. Этот закон универсален, но — в условиях исторической повседневности — не всемогущ, поскольку здесь он вступает в соприкосновение с другим божественным законом — свободы воли. Собственно, свобода воли — в духе подобного мироотношения — и есть предельное проявление божественной любви к человеку, дарование ему полной духовной самостоятельности, в том числе, наконец, и свободы от любви, свободы совершать зло. Вот почему всякому человеку приходится заново, с азов начинать свой путь к стяжанию любви. Ей надобно учиться, к ней надо восходить по ступеням. Педагогика любви, по разумению Гончарова, состоит в том, что к духу великого бытийного закона человек движется через постижение буквы этого закона. Идеальное осваивается с помощью материального, находящегося рядом, обрядового.
«Вас очень озабочивает, — продолжает он свой письменный монолог, — главная и основная сторона — развитие и поддержание в детях, религиозного чувства. С ужасом видишь, что нередко добрые, заботливые, даже сами в душе религиозные родители — в деле неослабного поддержания религии в детях бывают как-то слабы, равнодушны (tiedes[16] вернее выражает по-французски), думая, что после, когда дети созреют, так настанет время воспринять — будто бы прямо дух религии, минуя букву, а то-де из них, пожалуй, выйдут клерикалы, начнут таскаться по церквам, ставить свечи, икать и воздыхать о тяжких грехах, есть постное и это считать за религию (и т. п.)…
Я — идучи с Вами после дождя, по лужам, второпях коснулся этого слегка и был счастлив тем, что Вы разделяете мои мысли. Я, сколько помню, сказал, что в дух закона мимо буквы прямо попасть нельзя, и что не приучать детей к познанию и восприятию истин Евангелия путем правильного и непрерывного изучения свящ. истории догматов церкви, с применением к делу и к жизни — т. е. с посещением церкви — значит отводить мало-помалу детей и от духа. Мы созданы не из одного духa, но и материально, следовательно — и способ развития религиозного духа в начале также идет материальным путем т. е. рядом образов, воплощений, впечатлений чувственных и т. д. И потом все это в совокупности и образует в душе ту преобладающую над всеми стихию, которая и есть религия, конечная цель которой — поклоняться Богу в духе и истине.