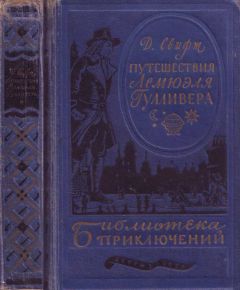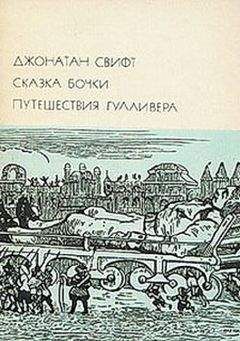Михаил Левидов - Путешествие в некоторые отдаленные страны мысли и чувства Джонатана Свифта, сначала исследователя, а потом воина в нескольких сражениях
И в итоге – книга перешла в потомство, предварительно очищенная от «клеветы», как веселая книга, написанная для детей.
Виноват ли в этом Свифт? Конечно! Вольно же ему было оставаться таким «нелитератором» и писать такую личную книгу, руководствуясь лишь одним, внутренним законом: исчерпать себя до дна!
Но пробовали и иным способом расщеплять книгу на волокна. Так делали те, кто задались соблазнительной целью – найти «положительный идеал» Свифта – и поторопились увидеть его в «натуральном хозяйстве» королевства Бробдингнег и страны гуигнгнмов… И не заметили пустяка: того, что Бробдингнег и гуигнгнмы существуют не как реальность и не как идеал, а только как условный композиционный момент, как возвышение, с которого удобнее всматриваться в единственную реальность, в равнину лилипутов, лапутян и еху. Расщепив же книгу на социологические волокна, пытались затем снова выткать ткань – привести в стройную мировоззренческую систему высказывания Свифта – и вновь всплеснули руками, возгласив о «непримиримых противоречиях» Свифта, об отсутствии единой центральной идеи в «Гулливере».
И опять-таки Свифт виноват. Вольно же ему было оставаться таким «немыслителем» (не чета Локку и Гоббсу!) и писать такую личную книгу, руководствуясь одним лишь внутренним законом: исчерпать себя до дна!
А между тем книга Свифта великолепна именно своим единством, несмотря на композиционную свою разорванность и логическую противоречивость отдельных высказываний. Она пронизана тем же единством, как и вся жизнь Свифта, – единством смысла, задачи, пафоса.
– Я, нормальный, разумный и морально здоровый человек, брошен в мир безумия, нелепости, лжи и насилия – и примириться с этим миром, счесть его нормою не могу и не хочу!
В этой формуле-мысли, ставшей эмоцией, и эмоции, возведенной в качество мысли, – смысл, задача и пафос жизни Свифта, и ею же определяется вся концепция и композиция «Гулливера». Сам Свифт не всегда это понимает, самому Свифту иногда кажется, что вот тут он хотел лишь свести счеты с Уолполом, а тут дать выход своему отвращению к медицине. Но – «всем дыханием своим славлю господа», – пелось в старинных псалмах; каждым отраженным в «Гулливере» порывом мысли и чувства, каждым дыханием своего гения утверждает и славит Свифт свою задачу.
Таким образом, «Гулливер», то есть автобиография Свифта, становится биографией человечества, как его видит Свифт. Нет спора – она написана пристрастным биографом, который многого не видит, но он наделен гениальным чутьем социальной практики своей эпохи, непримиримостью гуманиста, этический идеал которого – разумный и свободный человек. Свифт не может указать спасительной системы социального устройства, и как дитя своего времени он ищет ответа в области индивидуальной этики. Страстная непримиримость в отношении зла, безумия, нелепости и лжи – это начало пути.
И поэтому, «оплачивая свой счет», то есть дав гениальную картину конфликта между собой, разумным, свободным и, следовательно, нормальным человеком, и ненормальным миром, Свифт хотел воздействовать на мир. И «Гулливер» – автобиография человека, потерпевшего крах в своей попытке воздействовать на мир, – есть опять-таки и все-таки попытка совершенствовать человеческий род…
Какая… невежливая однако, попытка!
«Плевок в лицо человечества» – таков на взгляд практического разума эпохи монолог Гулливера в десятой главе четвертой части книги, эти несколько десятков строк, горше и жесточе которых не найти.
И Свифт хотел, чтоб люди – еху – это прочли и согласились?
Какая… наивная, однако, попытка!
Но им владеет властная потребность обратиться с призывом:
– Да, вы еху, я об этом не умолчу! И среди вас, еху, я, разумный, свободный человек, одинок. Но только к вам, к кому же еще могу я обратиться с моим непримиримым призывом: может быть, захотите вы, может быть, сумеете вы перестать быть еху? Долгие годы я жил и боролся за то, чтоб хоть в чем-нибудь вы перестали быть еху и приблизились хоть сколько-нибудь к нормальному человеку. Я был побежден в этой борьбе, как Гулливер, я оказался пленником вашего мира, нормальности которого я не признаю, я убедился, что вы не хотите и не можете перестать быть еху… И все же я пишу эту книгу, я не могу молчать, пока я жив, я следую властному велению, диктующему мне: скажи, скажи им еще раз, – может быть, захотите вы, может быть, сумеете вы превратиться из еху в человека!
Понимает ли Свифт трагическую иронию своего призыва?
Да или нет, но он еще не ставит точки. Путь Гулливера кончен, он возвратился на свою родину – она же страна его изгнания. Но не закончено еще путешествие Свифта, окончательное, последнее возвращение – еще впереди…
Глава 17
Свифт отказывается от пудинга
Ничего не боюсь, ибо ничего не имею!
ЛютерПомни всегда: тебя пригласили обедать к патрону, – стало быть, ты получаешь расчет за былые услуги.
ЮвеналЛондон. 1726 год. Вялое, бледное весеннее утро – сегодня 27 апреля. В столовой дома сэра Роберта Уолпола, премьер-министра Англии, за ранним завтраком – сейчас только девятый час – сидят друг против друга двое людей.
Обширная столовая орехового дерева радовала глаз светлой окраской. Стены, покрытые до середины деревянной панелью с искусной резьбой, украшены веселенькими охотничьими пейзажами; в широких мягких креслах можно полулежать; легкомысленные фарфоровые фигурки разбросаны в уютном беспорядке на тяжелой доске камина; деловито потрескивали дрова – по утрам еще свежо. В такой столовой должен был завтракать человек спокойный, умевший жить и не любивший огорчаться.
Во всяком случае, поесть он умел и любил. Несмотря на ранний час, завтрак был плотный, даже тяжелый. Хозяин дома, большой, высокий человек, ширококостный, краснолицый, с крупным носом, тяжелым, мясистым подбородком и как бы сонными, но внимательными светло-серыми глазами, очень внимательно относился к утренней трапезе. Круглый стол был уставлен блюдами, кувшинчиками, яствами. Хозяин ел очень медленно, словно оценивая каждый кусок перед тем, как отправить его в рот; крупное его тело, облеченное в мешковатый, но из хорошей ткани сшитый, добротный костюм табачного цвета, покоилось в кресле, голос его был звучен и ровен, смех – легок и добродушен, движения рук, с крупными, длинными, но неожиданно цепкими пальцами, уверенны и властны. Сэр Роберт Уолпол отпраздновал в этом году свое пятидесятилетие, но он и не думал о приближении конца: жизнь, честное слово, хотя и хлопотная, но приемлемая штука, если уметь с ней обращаться…