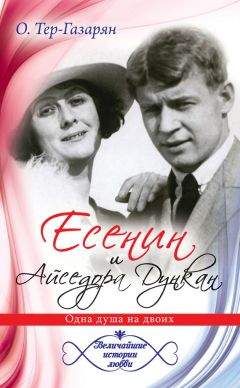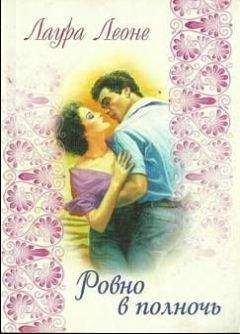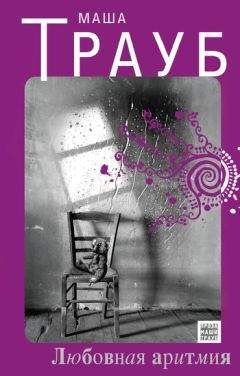Айседора Дункан - Моя жизнь. Встречи с Есениным
— Отдыхаете в Алуште? — спросил я, потирая руку.
— Нет, приехал. Сегодня тут мой вечер.
— Как? — встревожился я. — Сегодня мы выступаем в курзале.
— Вы аристократы. А я скромно — в санаторном клубике… А вы все с «есенятами»? — сказал он, поглядывая на высыпавших из автобуса девушек, подростков и девочек, составлявших тогда производственную группу школы-студии.
— Вернее, с «дунканятами», — ответил я, — а то «есенята» звучит как «бесенята».
Маяковский смотрел на веселый цветник в одинаковых легких розовых платьях, внезапно выросший на пыльном шоссе.
— Такие «бесенята» если вскочат в ребро, тут тебе и крышка… — пробасил он и тут же добавил: — Жара. Духота. А горло окатить нечем. Продают что-то подкрашенное, — повернулся он в сторону водного киоска.
— Можно здесь пива холодного выпить, — показал я на серый каменный дом напротив, во втором этаже которого помещался единственный ресторан Алушты.
— Мысль правильная. Пойдемте! (Сказал, как команду подал, — нельзя не подчиниться.)
Мы поднялись в совсем пустой ресторан, сели за столик и заказали пива.
— Едешь из Ялты, — сказал Маяковский, — видишь то с той, то с другой стороны, как медведь уткнулся мордой в Черное море, чтобы выпить его, и думаешь, как ему осточертело и опротивело пить веками соленую воду…
Маяковский замолчал и вдруг сказал:
— Да… Есенин…
Может быть, он ответил вслух на какие-то свои мысли?
Тут подали пиво. Он налил два стакана, отхлебнул от своего и поставил его обратно на стол. Пиво было теплым, как подогретое.
— Это хуже, чем пойло для гурзуфского медведя.
Мы вышли и распрощались.
Из Крыма студия выехала в Ростов-на-Дону, где в первую же ночь я проснулся от какого-то гула. Даже моя кровать чуть-чуть сдвинулась. Это был отзвук второго, очень сильного землетрясения в Крыму. Мы проскочили через Крым между двумя землетрясениями.
В Донбассе после спектакля для шахтеров Макеевки я повел студиек наблюдать за прекрасными движениями вальцовщиков прокатных станов.
Мы молча стояли, застыв в созерцании феерической картины, когда, стараясь перекрыть беспрерывный грохот, гул и рокот, раздался чей-то голос:
— Кто здесь товарищ Шнейдер?
— Я.
— Я начальник местного ГПУ. Сейчас я слушал радио из Москвы: ваша Дункан погибла при автомобильной катастрофе…
Это было 15 сентября 1927 года.
На станции Харцызск я купил «Известия» и сразу увидел заголовок «Смерть Айседоры Дункан» и фото Айседоры, сделанное, очевидно, с портрета, висевшего в моем кабинете.
Мемуары Айседоры Дункан, изданные в 1927 году, оканчивались фразой:
«Прощай, Старый мир! Завтра я уезжаю в Новый!»
Второй том воспоминаний должен был охватить период ее пребывания в Советской России.
Незадолго до ее смерти в Ницце один из бесчисленных интервьюеров задал ей вопрос:
— Какой период вашей жизни вы считаете величайшим и наиболее счастливым?
— Россия, Россия, только Россия! — ответила Айседора. — Мои три года в России, со всеми их страданиями, стоили всего остального в моей жизни, взятого вместе! Там я достигла величайшей реализации своего существования. Нет ничего невозможного в этой великой стране, куда я скоро поеду опять и где проведу остаток своей жизни.
В сентябре 1927 года, за два дня до своей смерти, Дункан начала писать новую книгу. Несколько листов голубоватой, цвета хмурого неба, бумаги, на которой китайской тушью писала всегда Айседора, покрылись стремительными строчками странного ее почерка с буквами, то горизонтально, то вертикально удлиненными…
… В тот сентябрьский вечер раскаленный асфальт Promenade des Anglais жарко дышал впитанным за день солнцем. Айседора спустилась на улицу, где ее ожидала маленькая гоночная машина, шутила и, закинув за плечо конец красной шали с распластавшейся желтой птицей, прощально махнула рукой и, улыбаясь, произнесла последние в своей жизни слова:
— Прощайте, мои друзья! Я иду к славе!
Несколько десятков секунд, несколько поворотов колес, несколько метров асфальта… Красная шаль с распластавшейся птицей и голубыми китайскими астрами спустилась с плеча Айседоры, скользнула за борт машины, лизнула сухую вращавшуюся резину колеса. И вдруг, вмотавшись в колесо, грубо рванула Айседору за горло. И остановилась только вместе с мотором.
Мотор у машины был очень сильный, поэтому и удар был необычайной силы: первый же поворот колеса переломил позвоночник и порвал сонную артерию.
Прибывший врач сказал:
— Сделать ничего нельзя. Она была убита мгновенно.
Чтобы освободить голову Айседоры, притянутую к борту машины, пришлось разрезать шаль.
Дикая толпа набросилась на искромсанную ножницами шаль и в тупой погоне за талисманами и амулетами из «веревки повешенного», приносящей, по поверию, счастье, растерзала шаль на клочки.
Эта машина итальянской фирмы «Бюгатти» была продана на аукционе в Ницце. Какой-то маньяк счастливо улыбался, когда после разгоревшегося на аукционе ажиотажа машина досталась ему за неслыханную тогда цену в 200 тысяч франков.
Через два часа после катастрофы около студии Дункан в Ницце раздался стук лошадиных копыт. Это везли тело Айседоры из морга домой. Ее уложили на софу, покрыли шарфом, в котором она танцевала, и набросили на ноги пурпурную мантию. Студия наполнилась цветами и множеством зажженных свечей.
Еще в Москве Айседора не раз говорила, чтобы на ее похоронах обязательно играли «Арию» Баха. Ее желание было исполнено, и в Ницце и в Париже играли «Арию» Баха.
Хотя Айседору и не собирались хоронить в Ницце, мэр города, узнав, что среди бумаг Дункан оказалась справка, подтверждающая желание Айседоры принять советское гражданство, заявил, что не разрешит хоронить ее в Ницце.
Утром пришла телеграмма от американского синдиката издательства, подтверждавшего договор на издание мемуаров Айседоры и сообщавшего о переводе через парижский банк денег. Она ждала этих денег, чтобы выехать в Москву.
Голубоватые, цвета хмурого неба, листы бумаги нетронутой стопкой остались лежать на столе Айседоры в Ницце. Страницы о годах, проведенных у нас, не были написаны…
В Париже на гроб Айседоры был положен букет красных роз от советского представительства. На ленте была надпись: «От сердца России, которое скорбит об Айседоре».
На кладбище Пер-Лашез ее провожали тысячи людей. После похорон в течение трех дней шло торжественное траурное заседание в Сорбонне под председательством Эррио. Комитет по увековечению памяти Айседоры принял решение поставить ей в Париже памятник работы Бурделя, но это решение не было осуществлено.