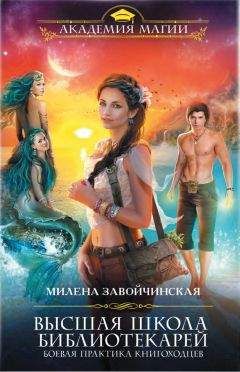Владимир Катаев - Чехов плюс…
Иногда попытка следовать обманчивой простоте чеховских пьес оборачивалась драматургической беспомощностью: таковы «Деревенская драма» Н. Гарина (Михайловского)[486] – по сути, очерк деревенских нравов, расписанный по ролям, или «Мужики. Картины деревенской жизни» Чирикова…[487]
Но в главном: в понимании конфликта, в расстановке персонажей в конфликте – «знаньевцы» следовали эстетике не Чехова, а Горького. Все их пьесы полны противопоставлениями, противостояниями.
Чехов, начиная с «Чайки», проводил в своих пьесах принцип уравнивания ответственности всех действующих лиц за происходящее. Герои Чехова приходят в столкновения, сами они убеждены в абсолютной противоположности своих «правд». Автор же указывает каждый раз на общность между ними, на скрытое сходство, которого они не замечают или с возмущением отвергают. Получается – не «виноватых нет», а «виноваты все мы».
Горькому же, а вслед за ним «знаньевцам» действительность виделась в четких делениях на «своих» и «врагов». Вот замысел его пьесы «Жид»: «Она будет поэтична, в ней будет страсть, в ней будет герой с идеалом. <…> А героиня – дочь прачки – демократка! – была на курсах, жена присяжного поверенного, презирающая ту жизнь, которой она живет! Вокруг этих лиц – целое общество провинциального города! <…> все сволочь, все мещане!».[488] И другой замысел: «Куча людей без идеалов, и вдруг! – среди них один – с идеалом! Злоба, треск, вой грохот».[489] Эти замыслы остались неосуществленными, но в написанных пьесах Горький сосредоточился на изображении разных видов вражды и противостояния в тогдашней России.
Противостояния отцов и детей, «мещан» и тех, «кто трудится»; «дачников» и тех, кто делает «какое-то серьезное, большое, всем нужное дело»; «детей солнца» и «детей земли»; наконец, капиталистов и рабочих. Только в «На дне», стоящей особняком, Горький ближе всего подошел к чеховскому принципу «скрытой общности» и «общей вины», хотя и настаивал на том, что в основу пьесы положен принцип противопоставления.
Драматурги «Знания», а потом большинство советских драматургов, как бы широко некоторые из них ни использовали отдельные элементы драматургического языка Чехова (будь то магия Дома, офицерская среда или желтые башмаки в булгаковских пьесах), в этом главном, глубинном – в понимании конфликта – шли вразрез с Чеховым. Для большинства их текстов чеховские пьесы оставались одновременно и объектом преодоления, и непревзойденным образцом.
2
И совсем иначе то же притяжение – отталкивание по отношению к чеховской драматургии видится в пьесе Владимира Набокова «Событие», написанной и сыгранной в Париже в 1938 году.
В основе развития сюжета «События» – пружина, пришедшая из гоголевского «Ревизора». Страх, овладевший художником Трощейкиным перед бывшим любовником его жены, который когда-то грозился его убить и которого, узнает он, выпустили из тюрьмы, напоминает по степени воздействия на сюжет пьесы страх городничего, заставивший его принять фитюльку за ревизора. Так считал первый постановщик пьесы Юрий Анненков – наверное, с подсказки самого Набокова.[490]
Где и когда происходит действие пьесы? В городе и в эпоху, которых вроде бы нет, настолько неопределенно они обозначены (снова как в «Ревизоре» – как бы наш душевный город).
«Событие» – аллегория? Да, и в то же время в пьесе очень точно просматриваются вполне реальные и конкретные вещи. Сюжет ее – страх перед угрозой, от которой не скрыться, опасения за жизнь, на которую покушается беглый каторжник, – это ведь настроения значительной части русской эмиграции в 1938 году. Страх эмиграции перед рукой Москвы – НКВД, которая могла дотянуться куда угодно. И одновременно страх перед другой угрозой – германского фашизма, который грозил настигнуть в любом европейском городе.
Если Трощейкин – типичный русский эмигрант (хотя о таком его статусе в пьесе ничего не говорится), то его жена Люба – это как бы душа и настроение эмиграции. Характерно: Люба, презирая и отвергая своего мужа-эстетика, неизвестно еще, стуящего ли художника, тянется к тому, далекому, единственному достойному любви. И это – аллегория настроений значительной части русской эмиграции в конце 30-х годов. Быт, гости дома Трощейкиных представлены в духе гротескно-пародийном, как выражение фантасмагорийного существования эмиграции. И это может быть возведено как к модернистской пародийной Вампуке, так и, опять-таки, к гоголевскому «Ревизору».
Но гораздо больше в набоковской пьесе чеховского.
Тут и три сестры, и ружье, висящее на стене, и maman, читающая брошюры, и стрельба с непопаданием по ненавистному сопернику, и герои, живущие каждый в своем мире, и воспоминания об умершем отце, о проданном саде, и далекий любовник, определяющий поведение героини…
Все это взято из чеховских пьес и не только пьес – чеховское разлито по всему тексту «События». И может показаться, что отношение к Чехову здесь сугубо ироническое, исчерпывающееся таким пародийным перебором чеховских мотивов. Не забудем: это 38-й год, после гастролей МХАТ в Париже – демонстративно и шокирующе бесчеховских, с заменой Чехова на Горького. Намеки на соотнесенность этих имен есть в пьесе: одного героя, зятя, зовут Алексей Максимович, еще одну героиню, тещу, – Антонина Павловна.
Но как ни стремится Набоков посмеяться над расхожестью цитат из чеховских пьес – цитат, давно ставших общим местом и общим достоянием, в тех местах пьесы, где он вполне серьезен, он прибегает все к тому же метатексту.
Вот, например, монолог о запоздалом прозрении: «А твое искусство! Твое искусство… Сначала я действительно думала, что ты чудный, яркий, драгоценный талант, но теперь я знаю, чего ты стоишь. <…> Ты ничто, ты волчок, ты пустоцвет, ты пустой орех, слегка позолоченный, и ты никогда ничего не создашь…»[491]– звучит как переоценка Войницким его былого кумира Серебрякова в «Дяде Ване».
Или слова Трощейкина в 3-м действии: «Вот мы здесь сидим, балагурим, пир во время чумы, а у меня такое чувство, что можем в любую минуту взлететь на воздух…»[492] – как воспоминание о 3-м действии «Вишневого сада»…
Эта напряженная атмосфера, когда все время ожидается катастрофа, крушение всего, а герои, несмотря на тревожные ожидания, почти ничего не делают, чтобы предотвратить надвигающуюся беду, – это основная ситуация, конечно, не «Ревизора», а «Вишневого сада».
Психологизм набоковской пьесы навеян также не XIX, а XX веком.
Психология современной женщины, психология нелюбящих супругов (разговор Любы и Трощейкина, их взаимное признание в нелюбви), когда жена любит другого, готова сказать об этом мужу, тот знает или догадывается, но стремится сохранить status quo – это слепок с отношений Маши и Кулыгина (там, у Чехова, даже тоньше), и это уже не пародия.