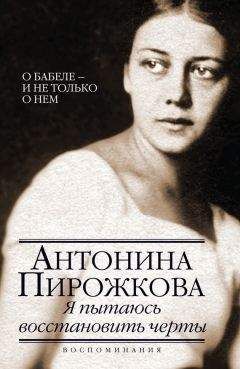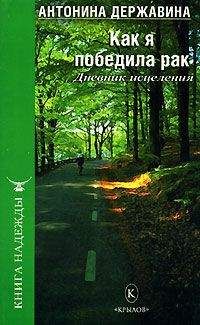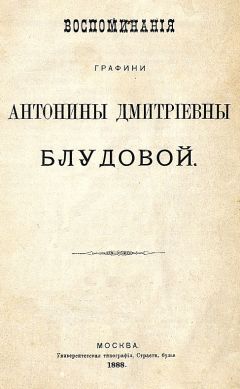Леонид Гроссман - Достоевский
— …И вот, — продолжал свой рассказ Федор Михайлович, — в этот решительный период своей жизни художник встречает на своем пути молодую девушку ваших лет или на год-два постарше…
…Возможно ли, чтобы молодая девушка, столь различная по характеру и по летам, могла полюбить моего художника? Не будет ли это психологическою неверностью? Вот об этом-то мне и хотелось бы знать ваше мнение, Анна Григорьевна.
— Почему же невозможно? Ведь если, как вы говорите, ваша Аня не пустая кокетка, а обладает хорошим, отзывчивым сердцем, почему бы ей не полюбить вашего художника? Что в том, что он болен и беден? Неужели же любить можно лишь за внешность да за богатство? И в чем тут жертва с ее стороны? Если она его любит, то и сама будет счастлива и раскаиваться ей никогда не придется!
Я говорила горячо Федор Михайлович смотрел на меня с волнением.
— И вы серьезно верите, что она могла бы полюбить его искренно и на всю жизнь?
Он помолчал, как бы колеблясь.
— Поставьте себя на минуту на ее место, — сказал он… — Представьте, что этот художник — я, что я признался вам в любви и просил быть моей женой. Скажите, что вы бы мне ответили?
Лицо Федора Михайловича выражало такое смущение, такую сердечную муку, что я, наконец, поняла, что это не просто литературный разговор и что я нанесу страшный удар его самолюбию и гордости, если дам уклончивый ответ. Я взглянула на столь дорогое мне, взволнованное лицо Федора Михайловича и сказала:
— Я бы вам ответила, что вас люблю и буду любить всю жизнь».
Сам Достоевский переживал свое новое чувство спокойно. Оно ничем не напоминало его бурных страстей к Исаевой и Сусловой. Сам он вскоре сообщал о своей женитьбе:
«При конце романа {То есть при окончании диктовки «Игрока».} я заметил, что стенографка моя меня искренно любит, хотя никогда не говорила мне об этом ни слова, а мне она все больше и больше нравилась. Так как со смерти брата мне ужасно скучно и тяжело жить, то я предложил ей за меня выйти. Она согласилась, и вот мы обвенчаны. Разница в летах ужасная (20 и 44), но я все более и более убеждаюсь, что она будет счастлива. Сердце у ней есть, и любить она умеет».
В этом он не ошибся.
Период помолвки столь несхожих людей проходил тревожно и даже драматично. Достоевский не скрывал от своей невесты долговых обязательств, возложенных на него крахом «Эпохи». На его попечении оставались многочисленные родственники: вся семья покойного брата (буквально обнищавшая), двадцатилетний пасынок Федора Михайловича — Павел Исаев, отчасти брат Николай, наконец и побочный сын Михаила Михайловича — мальчик Ваня со своей матерью Прасковьей Петровной Аникеевой. Число кредиторов умершего издателя журналов «Время» и «Эпоха» было так велико, а суммы их вексельных взысканий так значительны, что только за год до смерти, то есть в 1879–1880 годах, Достоевскому удалось погасить долги (и то лишь ввиду исключительной энергии, какую вложила в это дело сама Анна Григорьевна). Только в своей семье Достоевский был постоянно окружен десятком людей, для которых он представлял единственную материальную опору в жизни. И это было время, когда он почти безвозмездно писал роман «Игрок» и получал очень низкую оплату от Каткова за свой шедевр «Преступление и наказание» (150 рублей с листа). Время было чрезвычайно суровое, и безденежье сказывалось неумолимо.
Анна Григорьевна поняла, что такая система работы скоро приведет ее будущего мужа к полному разорению и едва ли сохранит ему достаточно сил для продолжения его напряженного труда. Она знала, что Достоевский не перестает закладывать свои вещи для неотложных текущих выплат: столовое серебро, китайские вазы из Казахстана, даже одежду. Для такой практичной и самоотверженной девушки, как Анна Григорьевна, мечтавшей отдать все свои средства для избавления любимого человека от страшного бремени чужих долгов, все это представлялось непоправимым несчастьем.
«Один из наших вечеров на Песках, — вспоминала через полвека Анна Григорьевна, — обыкновенно мирных и веселых, прошел для нас сверх ожидания очень бурно».
В конце ноября Федор Михайлович приезжает как-то вечером на Пески озябший и продрогший.
Его сейчас же напоили горячим чаем.
— Не найдется ли у вас коньяку?
— Кажется, нет, но есть херес.
Он залпом выпил три-четыре рюмки и снова попросил горячего чаю.
Хозяйка встревожилась.
— Разве ты не в шубе сегодня приехал?
— Н-нет, — замялся Федор Михайлович, — в осеннем пальто.
— Но почему же не в шубе?
— Мне сказали, что сегодня оттепель.
— Я сейчас же пошлю отвезти пальто и привезти шубу.
— Не надо! Пожалуйста, не надо!
— Как не надо? Ведь ты простудишься на обратном пути: к ночи будет еще холоднее.
— Да шубы у меня нет…
— Как нет? Неужели украли?
— Нет, не украли, но пришлось отнести в заклад.
Оказалось, с утра у него собрались родственники. Всем необходимы были деньги для покрытия экстренных долгов и оплаты неотложных нужд. Но денег у Федора Михайловича не было. Семейный совет тут же решил, что ввиду наступившей оттепели можно заложить его шубу. Этого пока хватило бы на самые срочные расходы. А там придут деньги из «Русского вестника».
Паша Исаев отнес шубу своего отчима к ближайшему закладчику.
«Я была глубоко возмущена бессердечием родных Федора Михайловича». Произошло бурное объяснение. «Я начала спокойно, но с каждым словом гнев и горесть мои возрастали; я потеряла всякую власть над собою и говорила как безумная, не разбирая выражений, доказывала, что у него есть обязанности ко мне, его невесте; уверяла, что не перенесу его смерти, плакала, восклицала, рыдала, как в истерике. Федор Михайлович был очень огорчен, обнимал меня, целовал руки, просил успокоиться…
— …Я так привык к этим закладам, что и на этот раз не придал этому никакого значения. Знай я, что ты примешь это трагически, то ни за что не позволил бы Паше отнести шубу в заклад…»
Мать Анны Григорьевны предлагает Достоевскому сделаться попечителем своей невесты, чтоб распоряжаться бесконтрольно ее имуществом. Но он отказывается.
— Дом этот назначен Анне, — говорил он. — Пусть она и получит его осенью, когда ей минет двадцать один год. Мне же не хотелось бы вмешиваться в ее денежные дела.
«Федор Михайлович, будучи женихом, всегда отклонял мою денежную помощь. Я говорила ему, что если мы любим друг друга, то у нас все должно быть общее.
— Конечно, так и будет, когда мы женимся, — отвечал он, — а пока я не хочу брать у тебя ни одного рубля».