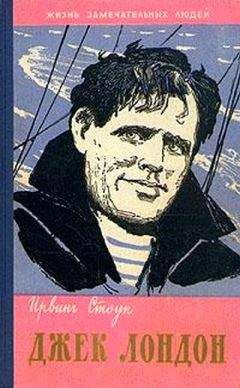Лев Лосев - Меандр: Мемуарная проза
Моему отцу, ленинградскому поэту Владимиру Лифшицу, было не впервой надевать военную форму. В качестве фронтового журналиста он участвовал в так называемом "освобождении" Западной Белоруссии в 1939 году, а потом и в настоящей войне — финской кампании 1939–1940 годов. Отечественную он начал политруком батальона. После разгрома народного ополчения под Ленинградом отец вывел, лесами и болотами, остатки своего батальона из немецкого окружения. Потом он снова стал фронтовым журналистом. До начала 44-го года служил на Ленинградском фронте, был дважды награжден за храбрость, однажды ранен. Не столько по его рассказам (он был человек сдержанный), сколько по рассказам его друга, художника Б.Ф. Семенова, я знаю, что его невзлюбили в политуправлении фронта как "заносчивого еврея" — это известный факт, что расцветший после войны государственный антисемитизм зарождался еще в военные годы. От отца избавились, как только представился случай. Случай был такой. Судьба свела на один вечер вместе отца с несколькими приятелями, тоже фронтовыми журналистами. В том числе с его близким другом и ментором, поэтом Александром Гитовичем. Крепко выпив, Гитович начал по-гусарски палить из пистолета то ли в бубнового туза, то ли по пустым бутылкам, о каковом буйстве на следующий день кто-то донес начальству. Преступление было невелико, никто всерьез не пострадал. Гитович, опохмелившись, вернулся в свою редакцию, а вот моего отца за недонесение перевели из армии, с которой он за три года сроднился, на Третий Украинский фронт. Последним материалом, который он сдал в свою газету перед отъездом, был агитационный стишок, каких он за годы войны написал немало. Вот этот;
Амбразуры переднего края,
Разметав пред собою снега,
Многотрудные дни вспоминая,
Исподлобья глядят на врага.
Ясный месяц укрылся за тучей,
Подремать, как солдат в блиндаже.
Обжигает нас ветер колючий.
Мы стоим на своем рубеже.
Ночь ракеты, как звезды, швыряет,
И гудит, и крадется, как тать.
Огоньками во мраке шныряет,
Свистнет, грохнет — и стихнет опять…
Всё, чем полнится сердце солдата,
Он расскажет теперь земляку.
Есть жена у него и ребята,
Мать на дальнем живет берегу… —
Поскорей бы ударить, товарищ!
Оглушить пруссака — и под лед!.. —
Это пепел далеких пожарищ
Тлеет в сердце и к мести зовет.
Если грянет приказ — "В наступленье!" —
Лес каленых заблещет штыков,
И дрожат в боевом нетерпенье
Флаги доблестных наших полков.
Шевельнутся солдаты во мраке
И шагнут через пламя и дым.
Цель такая у нас, что в атаке,
Если надо, — и жизнь отдадим!
Надо полагать, отцу здорово повезло, что военные цензоры были людьми не искушенными в верификационных играх. Потому что это стихотворение — акростих. Инициалы строк складываются во фразу: АРМИЯ ПОМНИ О СВОЕМ ПОЭТЕ ЛИФШИЦЕ.
Ничего подрывного в этой фразе, конечно, нет, но сам по себе факт помещения закодированного послания во фронтовой газете в военное время мог бы привести к очень тяжелым последствиям, если бы его раскрыли.
Четыре года самой страшной войны XX века были самым лучшим временем в сознательной жизни моего отца. До войны были 30-е годы, шизофреническое время для начинающего жизнь интеллигента. Страх уживался с беззаботностью. За ночь мог исчезнуть приятель-сверстник или чтимый старший товарищ, как Николай Алексеевич Заболоцкий. Поверить в то, что они были прежде затаившимися шпионами и саботажниками, было невозможно, но не умещалось в сознании и то, что СССР может быть чем-то иным, нежели страной социальной справедливости, готовой прийти на помощь униженным и оскорбленным всего мира. В литературе устанавливался бюрократический режим, которым верховодили неумные, недобрые, неталантливые люди. Но можно было весело дразнить их пародиями и эпиграммами, правда, все меньше в печати, все больше в домашних альбомах. Война, казалось, покончила с этим двусмысленным существованием. Когда 13 декабря 1943 года отцу и его ближайшим друзьям-поэтам, Вадиму Шефнеру, Анатолию Чивилихину и Александру Гитовичу, приехавшим с разных фронтов, удалось встретиться в осажденном Ленинграде в гостинице "Астория", они составили там "Асторийскую декларацию", где, в частности, писали:
3. Наша дружба, подвергавшаяся гонениям в предвоенные годы, оказалась одной из тех сил, которые помогли нам в труднейшие дни войны и блокады служить своему Отечеству.
4. Наши творческие принципы продолжают быть простыми и ясными: писать правду ("Не лги самому себе, и ты не будешь лгать другим"). В 1940 году Юрий Николаевич Тынянов сказал нам: "Я знаю, за что вы боретесь: вы боретесь за то, чтобы вернуть поэзии утраченную цену слова". Мы отнюдь не желаем, чтобы на поэзию наших лет распространилась оценка: "… многое исчезло: совесть, чувство, такт, мера, ум, растет словесный блуд". 5. Пользуясь милостью судьбы, которая свела нас в третий год войны здесь, в 124 неотапливаемом номере "Астории", мы подтверждаем крепость нашей дружбы и нашу решимость бороться за правдивое и высокое советское искусство[60].
Вскоре после войны авторам "Асторийской декларации" пришлось убедиться в том, что "правдивое и высокое" в искусстве несовместимы с "советским". Гитович, Лифшиц и Шефнер стали объектами антисемитской травли в годы так называемой борьбы с космополитизмом (1948–1953) (причем Шефнера подвела нерусская фамилия — он не еврей, а потомок обруселых шведов). Анатолия Тимофеевича Чивилихина как человека исконно русского и с правильной фамилией, а в поэзии склонного к архаизму, казалось бы, не тронули. Более того, в 50-е годы его стали выдвигать на номенклатурные должности в Союзе писателей, даже перевели в Москву, где он и покончил с собой в 1957 году, в возрасте сорока двух лет. Из петли его пришлось вынимать моему отцу, для которого уход Чивилихина был страшным потрясением — они были особенно близки и откровенны друг с другом. Именно в разговоре с Чивилихиным отец впервые в жизни сказал вслух, другу и самому себе, что же на самом деле происходит в стране. В начале 50-х, еще при Сталине, они поехали в командировку в Псков. Вечером, валяясь на койках в двухместном гостиничном номере, разговорились с непривычной для обоих откровенностью о том, что видят в стране, — о нищете и бесправии народа, о полицейском терроре, о тотальном подавлении свободы мысли и слова. "Володя, ну что же делать-то?" — спросил по-вологодски окающий Чивилихин. И отец, удивляясь самому себе, сказал: "Реставрировать капитализм". Лет двадцать пять спустя, когда он мне это рассказывал, он сам посмеивался над тем, что у него не нашлось других слов, кроме формулы агитпропа, чтобы обозначить мечту о свободе, о нормальном человеческом существовании. К слову сказать, до "реставрации капитализма" в России из авторов "Асторийской декларации" дожил только Вадим Шефнер. Он умер в 2002 году, без недели восьмидесяти семи лет. Через девять лет после Чивилихина, в 1966 году, умер Александр Гитович, чьи последние годы были отмечены дружбой с А. А. Ахматовой, а мой отец умер осенью 1978 года[61].