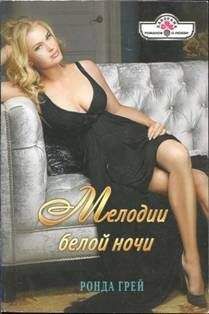Светлана Коваленко - Анна Ахматова
Судьбы О. Мандельштама, А. Модильяни, Н. Гумилёва, как и самой Ахматовой, были тем самым «совершившимся и неслыханным», «новым и поражающим», что произошло с ними в XX веке.
Осталась ненаписанной новелла о романе Маяковского с Вероникой Витольдовной Полонской, которую Ахматова хорошо знала и хотела назвать повествование о ней «Невинная жертва». В «Беглых заметках» Ахматова, со слов Е. Замятина, развертывает почти детективный сюжет, по которому художница Муся Малаховская предстает как бы двойником Полонской в последний, трагический период жизни поэта, в самый канун его смерти.
Еще об одной утраченной ахматовской новелле или о нескольких новеллах свидетельствуют фрагменты главы из задуманной книги с ироническим названием «Как у меня не было романа с Блоком». Автобиографические заметки о Блоке, пространные планы дают интереснейший материал для сравнения образа поэта, созданного в «Поэме без героя», с Блоком—человеком, представленным в многообразии его повседневной жизни. Сохранившиеся фрагменты с их тайнописью позволяют увидеть Блока возможным адресатом еще ряда ахматовских стихотворений, и среди них одного из наиболее значительных (1914):
И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась.
То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав.
Как голуби, вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.
И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.
Сравнивая, в частности, последнюю строку «Мне слышится голос тревоги твоей» с надписью на книге «Чётки», подаренной Блоку: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи», Алла Марченко в своей полемической, но достаточно аргументированной статье доказывает адресованность этого стихотворения Блоку, отводя Н. В. Недоброво, считавшегося его адресатом (Марченко А. «С ней уходил я в море…». Анна Ахматова и Александр Блок: Опыт расследования // Новый мир. 1988. № 9. С. 192).
Рабочие тетради Ахматовой полны записей, позволяющих судить о психологии творчества, о динамике авторской мысли, ведущей к рождению будущей книги. Приведем пример. В канун 1962 года, когда завершалась работа над «Поэмой без героя» и велась работа над театральным либретто и прозой о поэме, появляется запись под заголовком «Рождение стиха. Искра паровоза». Далее следует известный рассказ Ахматовой, раскрывающий реалии возникновения стихотворения «Не бывать тебе в живых…» – гибель Н. С. Гумилёва. Здесь же маленькая помета к автобиографии: «Какие—то получаемые мной гроши я отдавала Пуниным за обед (свой и Левин) и жила на несколько рублей в месяц.
Круглый год в одном и том же замызганном платье, в кое—как заштопанных чулках и в чем—то таком на ногах, о чем лучше не думать (но в основном прюнелевом), очень худая, очень бледная – вот какой я была в то время. И это продолжалось годами» (Записные книжки Анны Ахматовой. С. 207).
После этих записей следует новый отрывок, озаглавленный «А вот другое»: «Мой первый портрет – в «Пут<и> Конквистадоров» – «и властно требует мечта, чтоб этой не было улыбки». Кроме того, что уже очень рано («П<уть> Кон<квистадоров>") в Ц<арском> С<еле> я стала для Г<умилё>ва (в стих<ах>) почти Лилит, то есть злое начало в женщине. Затем (напр<имер>, см. „Сон Адама“ – Ева).
Он говорил мне, что не может слушать музыку, пот<ому> что она ему напоминает меня» (Там же).
Движение мысли ведет от стихотворения 1921 года «Не бывать тебе в живых…» в последующую жизнь, в семью Пу—нина, и снова вспять, к стихам Гумилёва начала 1910–х годов, лирической героиней которых была Ахматова. Между «Искрой паровоза» и обращением к стихам «Пути конквистадоров» вписан отрывок о жалком существовании и «кое—как заштопанных чулках», который у внимательного читателя (а ахматовский читатель всегда внимателен и, по возможности, все знает или пытается узнать) может вызвать воспоминание, записанное И. Одоевцевой со слов Гумилёва о его рождественском подарке юной жене: «Я купил у Александра на Невском большую коробку, обтянутую материей в цветы, и наполнил ее доверху, положил в нее шесть пар шелковых чулок, флакон духов „Коти“, два фунта шоколада Крафта, черепаховый гребень с шишками – я знал, что она о нем давно мечтает, – и томик „Les amours jaunes“ Тристана Корбь—ера. Как она обрадовалась! Она прыгала по комнате от радости» (Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1988. С. 295).
Когда прошли долгие годы в эмиграции и престарелые воспоминатели взялись за мемуары, судьба Ахматовой и Гумилёва оказалась в центре их внимания. Естественно, что многое было забыто, что—то восстановлено, что—то домыслено. Именно сюжетная линия, связанная с судьбой Гумилёва, интерпретация его личности и творчества, взаимоотношений с Ахматовой и другими близкими ему в тот или иной период жизни женщинами, причины и обстоятельства ареста и трагической гибели открывают новую тему в автобиографической прозе Ахматовой, определенную ею как «анти—мемуарии».
Детальный разбор «псевдомемуариев» явился ответом Ахматовой главным образом мемуаристам русской эмиграции. Читая или перечитывая сегодня «Петербургские зимы» Г. Иванова, «На Парнасе Серебряного века» С. К. Маковского, «На берегах Невы» И. Одоевцевой, «Курсив мой» Н. Берберовой и др., современный читатель с благодарностью воспринимает беллетризированную и нередко мифологизированную прозу. Другой нет и не было. Теперь Ахматова в подробнейшем анализе всех доходивших до нее публикаций – а материалом она владела в совершенстве (можно только гадать, по каким каналам она его получала), – пытается противопоставить мифу свою правду, в той или иной мере сама вовлекаясь в процесс мифотворчества. Особенно огорчил Ахматову выход в 1962 году в США первого тома Собрания сочинений Гумилёва под редакцией Г. П. Струве и Б. А. Филиппова. Случилось то, чего она больше всего боялась: импровизации мемуаристов во вступительной статье Г. П. Струве препятствовали, как она считала, изданию Гумилёва в Советском Союзе.
И она яростно защищает себя, свою биографию, биографию Гумилёва от вольных толкований мемуаристов и исследователей. Книгу прозы о «Поэме без героя» (см. Т. 3. С. 652–653) и фрагменты из книги, представленные в данном томе, она назвала pro domo mea и pro domo sua (о себе, в защиту себя и своего дома), отсылая к знаменитой лекции Цицерона, обличающего Клодия. М. Л. Гаспаров замечает по этому поводу: «…Клодий тем и был скандально известен, что перешел из патрициев в плебеи и во время изгнания Цицерона сжег его дом в Риме – без этого слова pro domo mea < и pro domo sua> не понятны» (Из письма к Н. В. Королевой от 22 мая 2000 года).