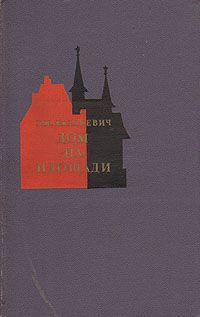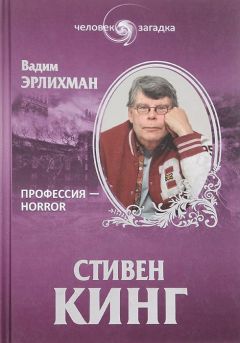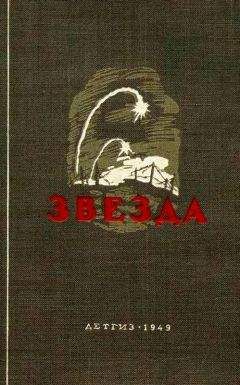Эммануил Казакевич - Дом на площади
- Что ж, объясним! Беда! То мы ни с кем не считаемся, делаем, что в голову взбредет, то вдруг начинаем чутко прислушиваться к любым высказываниям какой-нибудь поганой газетенки за границей. Следствие ведется? Что удалось узнать?
- Придется им умыться со статьей. Генике не только виноват, но и связан с целым рядом лиц по сю и по ту сторону демаркационной линии. Он много чего рассказал. В том числе подтвердил, что связан с крупным фашистом, который направляет действия против мероприятий Администрации; он находится где-то в нашем районе.
- Ну и слава богу, - облегченно вздохнул Лубенцов. - А то я немножко струхнул.
Итак, краснолицый реально существовал. Весь район был поставлен на ноги. Однако после ареста Генике - может быть, в связи с этим арестом "генерал Вервольфа" исчез. Лубенцов искренне жалел об его исчезновении. Было бы очень обидно, если бы краснолицый убежал за демаркационную линию и избегнул таким образом кары.
Во всяком случае, кругом стало тихо и мирно; началась засыпка семян к весенней посевной кампании. Новые крестьяне и безземельные, получившие землю, работали на своих участках, находя все больший вкус в реформе и понемногу освобождаясь от страха перед помещичьим возмездием. Когда же Советская Администрация распорядилась получить с них первый взнос с оплаты за землю, они и вовсе ободрились. Взнос был ничтожным, но это все-таки был взнос. Он означал, что земля куплена, а не взята. И крестьяне охотно и с удовольствием вбивали столбики вдоль своей новой межи, столбики, означавшие, что участок - ихний, собственный, купленный.
Краснолицый исчез.
VI
Воробейцев, придя однажды к своему новому приятелю Меркеру, застал у него высокого краснолицего плешивого человека, одетого в черный костюм и похожего в этом костюме на духовное лицо. Меркер познакомил "господина капитана" с "попом", как Воробейцев мысленно назвал краснолицего.
- Как живешь? - спросил Воробейцев у Меркера. - Достал ты мне тот "нэш"? Гоночный? С красной кожей на сиденьях?
- Достал, достал, господин капитан, - угодливо сказал Меркер.
У Воробейцева разгорелись глаза.
- Веди, показывай, - сказал он.
Воробейцев вышел вслед за Меркером.
- Это кто? - спросил Воробейцев, когда они вышли на улицу.
- Один знакомый, - ответил Меркер. - Вернее, знакомый моих знакомых. Приехал из Тюрингии по торговым делам.
- Чем он торгует?
- Различной м... м... мебелью и вообще... разным имуществом.
- Он не в Зуле живет? Охотничьими ружьями не торгует?
- Вполне возможно... Я спрошу. Обязательно узнаю. А что, вам нужны ружья?
- Вот еще спрашивает! Конечно, нужны!
Когда они после осмотра гоночной машины, которую Меркер раздобыл для Воробейцева, вернулись обратно, "поп" сидел все в той же позе у стола, зябко потирая большие руки. На сей раз он не испугался русского. Этого русского нечего было пугаться: он ходил по комнате - худой, длинный, изломанный, болтливый, нарочито грубый, удивительно невнимательный. "Поп" стал с ним разговаривать оживленно, ласково, расспрашивал его про подполковника "фон Любенцоф". Узнав, что русский интересуется ружьями, он выразил желание при первой же возможности, как только прибудет партия товаров, подарить капитану трехствольное ружье с одним стволом нарезным на крупного зверя. Воробейцев еще не видел таких ружей и очень обрадовался.
Русский капитан легко говорил по-немецки, и "поп" чувствовал себя с ним свободно. Только фуражка русского с малиновым околышем и большой красной звездой, фуражка, лежавшая на столе между ними, иногда, когда он косился на нее, выводила его из равновесия. Но потом Меркер нежно взял эту фуражку обеими руками, так, словно она была живая, и переложил ее куда-то на другое место, так как фрау Меркер стала накрывать на стол. После этого "поп" стал себя вести с Воробейцевым совсем запросто. Он даже раз хлопнул русского по колену в знак своих дружеских чувств и сам в душе возгордился этим своим жестом, о котором не мог даже мечтать час назад. Он решил, что поборол в себе страх перед "ними", что наконец перестал бояться "их".
Бюрке в эти дни, как и Лубенцову, тоже снились коровы, лошади, ягнята и телята. Но Лубенцову снились живые, а ему - плавающие в крови. Он мечтал об уничтожении всего скота в советской зоне, с тем чтобы здесь начался повальный голод, лучший союзник пославших его.
Фрау Меркер подала на стол огромный противень с жареной бараниной.
- Это последнее мясо у нас, - печально сказал Меркер. - От тех двух баранов, которых вы, господин капитан, изволили подарить нам... А что дальше будет...
- Ладно, - сказал Воробейцев, - не горюй. Подброшу тебе кое-что за эту машину. Сахару велю тебе дать с завода. Не бойся. Не похудеете, сказал он, обращаясь уже к жене Меркера, и похлопал ее по ляжке, не стесняясь присутствием мужа.
- О, - сказала она, нагибаясь к Воробейцеву и обнимая его. - Lieber Kerl!*
_______________
* Милый парень! (нем.)
- Гулять так гулять! - воскликнул Воробейцев, возбужденный этим быстрым объятием. - Что же это? Водки у вас нет, что ли? Доставай, доставай. Пришлю тебе еще.
"Поп" осторожно клал себе в тарелку куски баранины и при этом глядел на них странно пристальным взглядом. Время от времени он переводил взгляд с баранины на Воробейцева. Одобрительно кивая головой и иногда смеясь в ответ на остроты, успокаиваясь все больше и больше, он неопределенно думал о том, что, в общем, не все русские страшны; вот этот русский - порядочный бездельник и парень неплохой.
О подполковнике "Любенцоф" Воробейцев отозвался, в отличие от всех немцев, рассказывавших Бюрке о коменданте, не слишком почтительно. То есть в словах его ничего непочтительного не было, но все-таки в них сквозило раздражение; чувствовалось, что Воробейцев недоволен любопытством немца одним тем, что этому приезжему немцу так интересен Лубенцов. Разумеется, Воробейцев не собирался отзываться плохо о своем, советском, коменданте перед этими немцами, кто бы они ни были, хотя бы потому, что они немцы. Но он не в силах был скрыть свою неприязнь. Он сразу же перевел разговор на себя. И чем больше он пил, тем больше говорил о себе, и из его слов получалось, что в комендатуре главный - он, что все дела зависят от него, а начальство в Галле и даже в Берлине предпочитает всем другим офицерам его. Он сам как будто не замечал, что проделывает интересный, хотя и обычный в устах пьяных и хвастливых людей, фокус: он рассказывал о словах, сказанных Лубенцовым, и о делах, сделанных Лубенцовым, но вместо Лубенцова подставлял себя. И оттого что он в глубине души, конечно, знал об этой подстановке, он еще больше ненавидел Лубенцова, а себя еще больше любил и жалел.
- Выпьем! - кричал он то и дело по-русски и провозглашал один и тот же тост: - За встречу под столом!