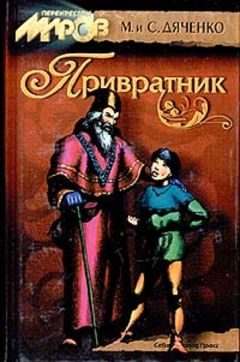Варлен Стронгин - Александр Керенский. Демократ во главе России
Надышавшись чистого воздуха Калифорнии и страны, строго и свободно живущей по законам, я набрался смелости и попросил родных подвезти меня до заветной библиотеки. Мой племянник настолько отлично справлялся с обязанностями, что шеф фирмы отпустил его в рабочее время часа на три-четыре, за которые мы успели съездить в Станфорд. В течение одной минуты, предъявив международный паспорт, я получил пропуск в читальный зал русского отдела архива, а еще через пару минут мне принесли ящик с личным архивом Керенского. Глаза разбежались от обилия интереснейших документов и радости, но я, как деловой американец, не стал терять время на эмоции и, отобрав самые важные для себя материалы, перепечатал их на ксерокопирующем аппарате, расположенном в читальном зале. Саша оплатил стоимость ксерокопий, а до этого – мою туристическую поездку по Калифорнии, за что я ему вечно благодарен, и, конечно, сестре, без «нажима» которой я, не зная английского, самостоятельно не добрался бы до Станфорда. Надо же было всему этому случиться? Удивительному благоприятному стечению обстоятельств для знакомства с жизнью незаурядного, необычного для своего времени человека, первого истинного демократа во главе России. Работая над архивом и другими документами о 1917 годе и Керенском, я обнаружил, что жизнь сводила меня с людьми из его времени. Этажом выше жила подруга моей мамы Лидия Исааковна Винавер, чей муж приходился племянником Максиму Моисеевичу Винаверу, члену Государственной думы, кадету, известному прогрессивному общественному деятелю России. На похоронах моего отца, на панихиде, выступал Николай Николаевич Накоряков, бывший директор Гослитиздата, а в 1917 году – военный комиссар 12-й армии Временного правительства (!). Прежде ничего подобного об этих людях я не ведал. Расскажу подробнее, поскольку даже их облик, их человеческий настрой помогли мне представить людей из окружения Керенского и понять его самого.
Предварительно должен сказать, что я вряд ли смог бы написать эту книгу без изданий, собранных моим отцом, окончившим Промакадемию и работавшим полиграфистом, директором издательств, входивших в государственное объединение издательств – ОГИЗ, заместителем начальника которого в конце жизни стал Накоряков. Отец рисковал, оставив в домашней библиотеке книги под редакцией «врагов» народа: Бухарина, Рыкова, Каменева, Бубнова, Гамарника… И поэтому, когда он был арестован, будучи директором государственного издательства еврейской литературы «Дер Эмес» («Правда»), за издание якобы националистической литературы», наверное, при обыске волновался, что эти книги обнаружат. Надо же такому случиться, что чекисты в штатском искали в доме «Черную книгу» о фашистском геноциде еврейского народа, изданную отцом и уничтоженную по их приказу. Боялись, что у отца сохранился экземпляр или верстка этой книги. Лишь однажды я услышал выкрик одного из них: «Нашел! Тухачевский!» Остальные столь нужные мне теперь книги о Гражданской войне сохранились. Хватило мужества у мамы, научного сотрудника Института экономики АН СССР, после осуждения отца страшившейся своего ареста, не уничтожить их при просмотре библиотеки.
Отец вернулся из лагеря в 1956 году, был полностью реабилитирован, называл Сталина «холерным», но, ощутив себя никому не нужным, отработанным «материалом», к концу жизни разочаровался в идеалах партии и лично в Ленине, чего не скрывал. Я задумался об этом, и серьезно, но стереотипы прошлого преодолел не сразу.
Страдавший болезнью Паркинсона отец лег на профилактическое лечение в больницу старых большевиков на шоссе Энтузиастов и, заработав там по странной халатности врачей инфаркт, скончался от воспаления легких в 1968 году, когда после окончания хрущевской «оттепели» в стране подняла голову реакция. В этой больнице начался страшный мор – в основном уходили из жизни старые большевики, репрессированные при Сталине и, вероятно, знавшие о вождях революции и их делах более того, чем кому-то властному казалось нужным. Эти «кто-то» боялись, что панихиды на похоронах бывших репрессированных могут превратиться в стихийные митинги протеста. Поэтому на прощание с моим отцом, куда пришло около трехсот человек, работник крематория выделил всего шесть минут – настойчиво и безоговорочно, грозя прервать траурную церемонию. На каждого из трех человек, пожелавших выступить, приходилось всего по две минуты. Эмоциональнее и лучше всех сказал об отце Николай Николаевич Накоряков. Небольшого роста, ладного телосложения, с седыми густыми волосами, подстриженными бобриком, он говорил, страстно и волнующе, подчеркивая активную роль отца в развитии еврейской литературы, его честность и непреклонность, проявившуюся даже на Лубянке, где он после диких пыток не подписал лживые протоколы. Говорил о деловых качествах отца, кстати члена партии большевиков с 1917 года, говорил о его истинном вкладе не в дело партии, а в служение культуре. На это я обратил внимание и об этом вспомнил, узнав, кем был Накоряков при Керенском. Они, несомненно, встречались, и военный министр, наверное, был для молодого Накорякова отличным примером человека-гражданина.
Всегда подтянутый, немногословный, скромный и гордый, отменный специалист по строительству мостов племянник Винавера и в первую очередь комиссар 12-й армии Временного правительства Николай Николаевич Накоряков помогли мне, насколько хватило у меня восприятия, сил и умения, наполнить духом Февральской революции повествование об Александре Федоровиче Керенском.
Надо же такому случиться, что судьба не раз подталкивала меня к написанию этой книги. Даже была благосклонна. Я перепечатал архив Керенского и увез в Дом творчества, а в это время мой сокурсник по институту Миша К., вошел в сговор с временными жильцами и риэлтером, выбросил или забрал к себе весь мой архив с целью захвата квартиры. Не удалось. И материалы с Керенским сохранились.
Я вспомнил, что однажды отец, отсидев восемь лет в лагере, переосмысливая жизнь, многозначительно признался мне в том, что до революции получил больше, чем потом, руководя издательствами. До революции, разумеется, Октябрьской – выходит в месяцы правления Временного правительства. Ранее, до объявления Керенским равноправия всех народов, отец просто не смог бы перебраться в Минск из еврейского местечка Пуховичи. Трудился наборщиком в типографии «Звезда» и зарабатывал больше, чем при большевистской диктатуре директор издательства. Значит, жизнь после победы Февраля была в России нелегкой, но не столь удручающей, как в СССР.
Я кропотливо и с полным напряжением сил создавал эту книгу, первый вариант которой увидел свет в 2004 году, и сразу же заимел две полярные рецензии: положительную журналиста В. Крылова – «Пасынок революции», и отрицательную, где я обвинялся в «любви к своему герою». Книга вызвала интерес, продавалась в киоске при Государственной думе и один из ее членов, кстати, выбранный туда от города Вольска, как и в свое время Керенский, познакомился со мною и задал мне несколько непростых вопросов. Немногим позже, меня пригласили на телевидение в программу Первого канала «Постскриптум». Записывали более часа, но пустили в эфир только две минуты. Передача посвящалась девяностолетию Февральской революции и ведущий программы заключил ее словами о том, что «Керенский был блестящим адвокатом, но никудышным политиком». Впервые и открыто о Керенском прозвучали хоть в какой-то мере хорошие слова. Была открыта в Музее Революции выставка материалов о Феврале. Медленно, натужно, но историческая правда начала возвращаться на круги своя. И я снова вспоминаю известного историка Д. А. Волкогонова, его пророческие строчки: «История лаврами победителей увенчивает своих лауреатов обычно много лет спустя. Ленин казался победителем на все времена, но в его октябрьском триумфе… Керенский и другие проницательные россияне увидели очертания неизбежного поражения… Сегодня мы знаем, что именно они оказались правы». Насчет последнего замечания следовало бы уточнить – кто мы? Далеко не весь народ. Именно сегодня, в ноябре 2008 года в очередную годовщину Октября коммунисты клялись, что «никому не отдадут его завоевания».