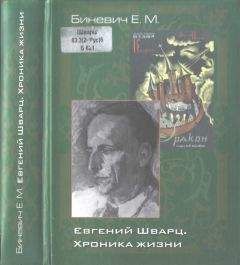Евгений Шварц - Позвонки минувших дней
Но и в раздражении и в ненависти театр был послушен. Я по своему положению в театре ясно видел все эти превращения: обе стороны были со мной откровенны. И я испытывал привычный ужас перед стихией — впрочем, столь же отвлеченный, как перед темнотой и бомбежками в Ленинграде. Акимов же понимал, что тут надо действовать. Театральный коллектив склонен неудачи приписывать руководителю, удачи же — своим достоинствам. Он склонен обвинять худрука в измене высоким принципам театрального искусства, формулировать которые он не дает себе труда. Короче говоря, тут дурное настроение вымещается не на слабейшем, а на сильнейшем. Немирович — Данченко, познакомившись с Акимовым в Тбилиси, изложил ему целую теорию потрясений театрального коллектива, имеющую свою периодичность. А ведь Немирович имел дело со счастливейшим театром! Акимов, как и Немирович, действовал, и театр, то ворча, то мурлыча, делал свое основное дело: показывал спектакли.
И что важно: Акимов мог ошибаться, мог терпеть неудачи, но качество, фактура, самая суть дела остались у него на первом плане. Вот он появляется в театре, маленький, тощенький, голубенькие глазки пристально глядят из‑под очков, заряженный энергией, лишенный и признака суетливости, но далеко не лишенный суетности, жадный до всего земного. В записной книжке записаны все дела на сегодняшний день. Несмотря на маленький рост, он кажется самым взрослым в своей труппе, более взрослым, чем лысый, продувной, лихой администратор Львин, более взрослым, чем старые, крайне принципиальные актрисы и сильно пьющие, поседевшие в разложении своем герои. Он знает, чего хочет, а они томятся, он думает, а они более склонны к чувствам. Очень умно, очень ясно он действует, приказывает, настаивает — настаивает на своем, даже когда не прав. Он больше воплощен, более существует, чем окружающие его. Он ведет. Он действует. И по закону движения иногда разгоняется до того, что летит, как вихрь, вместе с театром. Летит, летит!
Акимова надо будет переписать: многое, но не все рассказано. Трудно писать людей, которых любишь. Он очень, очень мажорен. И не может быть не ограничен, как все действующие люди. Холодный, ясный азарт достижения опьяняет его, не дает остановиться. И заносит его при всей разумности иной раз в сторону от цели. Но таков уж он уродился. Он рассказывал однажды, как в детстве сестре его подарили интересную книгу и она сказала, что прочтет ее потом, вечером. И он испытал ужас, а потом и презрение. Что за человек! Значит, она не хочет, в его понимании этого слова, читать книгу. Не умеет хотеть! Откладывает! Акимов, как большинство художников, расчетлив. Он любит вещи — вероятно, поэтому держится за них, может перебить удачную покупку в комиссионном магазине даже у близких друзей — единственный вид измены, который я у него наблюдал. Но и тут он ясен, и сила желания его так проста!..
В двадцатых числах апреля (1943 г.) мы не уехали из Кирова. Я почувствовал себя плохо. Мне показалось, что нам не доехать до Сталинабада. Но с начала мая, когда я поправился, на меня напал ужас — неужели нам так и оставаться навсегда в Кирове? Двадцать четвертого мая я приехал в Москву на совещание по драматургии. Попробовал закрепиться в Москве. Это оказалось невозможным (для меня). Надо было становиться в положение просителя, что показалось мне невозможным. 17 июня я уехал из Москвы. Мы решили перебираться в Сталинабад. И вот мы уже в Сталинабаде. Выехали в ночь на десятое июля и приехали 24–го. Три дня пробыли в Новосибирске, два в Ташкенте. Сталинабад поразил меня. Юг, масса зелени, верблюды, ослы, горы. Жара. Кажется, что солнце давит. Кажется, что если подставить под солнечные лучи чашку весов, то она опустится. Я еще как в тумане. Собираюсь писать, но делаю пока что очень мало..
Я получил двадцать четвертого[102] телеграмму из Москвы от Акимова: «Пьеса блестяще принята комитете возможны небольшие поправки горячо поздравляю Акимов». Это о «Драконе». В этот же день получена от него телеграмма, что поездка в Алма- Ату окончательно отпала, а московские гастроли утверждены. Срок гастролей он не сообщает.
Сталинабад — город особенный. Русские, живущие здесь, попали сюда либо не по своей воле, либо в погоне за большими заработками. Есть небольшой процент людей, которые любят работать на окраинах, потому что здесь они самостоятельны. И те, и другие, и третьи — стяжатели и деляги. (Это не относится к ученым, работающим здесь.) Воруют. Местные жители, таджики, загадочны. Чем они дышат — за полгода не поймешь. Когда они едут на ослах своих в чалмах, или ведут караван верблюдов, или сидят на ковре на городской мощенной булыжниками мостовой возле арыка под деревом и пьют зеленый чай, не поймешь, что они за люди. Одно я понял. То, что они называют песней и стихами, совсем не то, что называем стихами и песней мы. Я видел летом: сидит во фруктовом ларьке посреди арбузов таджик и поет. Но песня эта так же не внушает уважения, как их слезы. Они легко, очень легко плачут. И так же легко поют. У нас в деревне начинают петь позже. Литература их — такая же, как все другие, вероятно, судя по Омару Хайяму, Саади, Гафизу. А песни и импровизированные их стихи — это что‑то не то, из другого места идущее. Это не наши народные песни и стихи. Многие из них, особенно высокие старики в халатах и чалмах, производят впечатление солидное и благородное. О чем они говорят не спеша и солидно, когда сидят на своих ковриках и пьют чай или ждут покупателей? Нищие их говорят что‑то со страстью, протягивая вперед руки. Сказки их понятны. Но богатство событий, чудовищ, чудес — результат бедной фантазии. Рассказчик не знает, что ему говорить, и давай валить, что в голову придет, лишь бы не замолчать. Но не все сказки носят следы безобразных импровизаций. Есть изящные и гениальные.
Я получил за это время еще две телеграммы от Акимова. «Репертуарный план утвержден полностью. Сообщите на какую пьесу заключили договор с Камерным театром. Акимов». И вторую: «(По) Государственному заказу оформляется (в) Реперткоме, надеюсь (по) приезде получить следующую. Акимов». Сегодня пришла телеграмма без подписи: «“Дракон” включен в репертуарный план Камерного театра, молнируйте возможность приезда».
Все эти два месяца, после того как я дописал «Дракона», я совершенно ничего не делал. Если бы у меня было утешение, что я утомлен, то мне было бы легче. Но прямых доказательств у меня нет. Меня мучают угрызения совести и преследует ощущение запущенных дел. Не пишу никому, не отвечаю на важные деловые письма. Невероятно нелепо веду себя.
Я каждый день к двум часам иду в театр, где я теперь худрук. Когда небо ясное — совсем похоже на весну. Когда пасмурно или идет дождь со снегом, то трава, которая выросла возле домов и на крышах кибиток, кажется плесенью, которая завелась от сырости. В Кирове встречные говорили о карточках, хлебе, о том, где что выдают. Здесь — о температуре, малярии, загадочных болезнях. «Утром нормальная — вечером 38. Доктор говорит: ничего не понимаю». Возле Дома печати на улице Лахути витрина Таджик — ТАССа. Там выставляют последние сводки. Я читаю. Сводки часто вызывают разговоры — особенно когда касаются Украины. Здесь много эвакуированных оттуда, и они, увидев названия знакомых станций, громко сообщают, что они там бывали и сколько езды оттуда до Киева или до их родного города. Прочитав сводку, я перехожу на бульвар, который идет по улице Лахути. Посреди бульвара асфальт. По обе стороны асфальтовой аллеи — деревья, затем арык, еще ряд деревьев и снова арык. В самом начале бульвара — ларьки. Книжный, газетный, ларек, где ремонтируют электроприборы, ларек, где продают сырую воду с красным или зеленовато — желтым сиропом, пустой ларек, где летом продавали цветы. У ларьков продавщицы с тарелочками. На тарелочках маковки ромбовидной формы, но мака в них нет. Они приготовлены из тутовника. Пирожные — очень желтые бисквиты. На ступеньках закрытого ларька всегда сидит очень пожилой, седой инвалид — еврей. Возле него лежат костыли. Он торгует папиросами. Все деньги у него в кепке. Получив деньги за папиросы, он укладывает их в кепку, а кепку быстрым движением, чтобы деньги не высыпались, надевает.