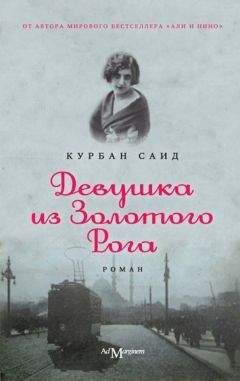Владислав Бахревский - Никон
— Так мы ж не солдаты!
— Дура! Ночью все кошки серые.
Старик потащил кого-то, но тотчас и бросил.
— Тяжелый!.. Одежи-то на них сколько! И все хорошая. Может, снять?
— В крови…
— Эко дело — кровь. Выстираешь.
И тут Савва решился.
— Хозяева! Люди добрые!
— Ой! Ой! — взвизгнула старуха.
— Тихо! — прикрикнул на нее старик. — Али живые есть?
— Есть, — ответил Савва. — Помоги, Христа ради. Застрял.
Старик проворно залез на печь.
— Ох ты! И тут кровища.
— Обоих? — спросил Савва.
— Каких обоих? Один.
Столкнул с печи труп. Старуха зарыдала внизу.
— Цыц! — крикнул на нее старик. — По мертвым чего хныкать. Живого давай спасать.
Подержал Савву за плечи. И тоже удивился:
— Как же ты влез сюда?
— Не знаю.
— Видно, Богородица тебя спрятала от смерти… Старуха, лезь помогать.
Но и вдвоем они тоже не выдернули Савву из его западни.
— Печку, что ли, разбирать?! — удивился старик. — Уж больно ладная она у меня.
— Бога ради! — взмолился Савва. — Я тебе заплачу, а то и отработаю. Я — колодезник. Хороший колодец тебе выкопаю.
— Колодец у меня добрый, — сказал старик, — а достать тебя все равно надо… Этих-то я всех повытягаю, а тебе ж не век тут стоять.
Савва молчал. Мели Емеля, язык без костей, только поскорее за молоток принимайся.
— Сначала-то, пожалуй, этих во двор вытянуть, — решил между тем старик.
— Они ж тяжелые! — встрепенулся Савва. — Меня, старче, освободи. Я тебе помогу.
— Ну, Бог с тобой! — согласился старик и, пороша на Савву глиной и крошевом, принялся выламывать кирпичи.
Наконец-то свобода.
Поглядел-таки Савва на то место, куда его страхом затиснуло, и глаза зажмурил. Снял с пояса кожаный мешочек, где деньги хранил, отдал старику.
— Больше у меня нет! Век должник твой.
— Не я тебя спас, — качал головой старик, просовывая в щель так и этак растопыренную ладонь. — Не я тебя спас.
Поглядел Савва с печи на пол, а там половина его полусотни, и уже от мух стены черны.
11Для иного человека уже в фамилии его заключены и судьба, и рок. У Курочки куры всему селу на диво, Надуткин — и надут, и врет, Погадайка — мастер угадывать.
Фамилия могилевского шляхтича, поспешившего с изъявлением покорной готовности перейти на службу от короля к царю, была Поклонский.
За то, что раньше других успел, Алексей Михайлович пожаловал шляхтича в полковники и отправил в Могилев звать шляхту и прочего звания людей присягать московскому государю.
Поклонскому и жалованье тотчас выплатили, да все чистым серебром, правда, не ефимками, а новыми рублями.
Рубли, как и прежде, перечеканивались из талеров. Это был тот же ефимок, из которого выходило шестьдесят четыре копейки, но принимать его казна требовала за рубль. Так же и в полуполтине: серебра набиралось на шестнадцать, а цена объявлялась в двадцать пять копеек.
Советчики Алексея Михайловича полагали, что не серебро денег стоит, но величие царского имени. Уже в 1648 году ефимок, не прибавив в весе, подорожал на треть. Прежняя цена ему была полтинник. В те годы, перечеканивая талеры в копейки, серебро очищали от примесей, из одного талера копеек выходило от сорока восьми до пятидесяти. Но время было другое, мирное.
Теперь, в 1654 году, когда царь пошел на царя, когда денег с каждым днем требовалось все больше и больше, а взять их было неоткуда, исхитрились придумать рубль. А сверх того — медный ефимок! Был тот ефимок почти копией серебряного рубля, но стоимость ему назначили равную пятидесяти копейкам. Да ведь не медным копейкам — серебряным. Выпустили также медные алтыны, медные копейки, денежки, и опять же велено было считать, что красное ровня белому, медь — серебру.
Однако вновь испеченному полковнику Поклонскому, чужому, царь заплатил старым серебром, а своему, бедному Савве, привезшему известие о побитии под Оршею многих русских людей, пожаловал в утешение алтын, медный.
— Вот оно! — чуть не со слезою выкрикнул Никита Иванович Романов. — Началось! Спящих порезали! Где это видано, чтоб на войне спали?! Говорил я тебе, великий государь, много раз говорил: русские люди жить-то как следует не умеют, где уж им воевать! Ведь все балбесы. Пороть! Пороть надо! Особенно тех, которые на войне спят!
— Что он, царев кнут, перед бичом Господним?! — Алексей Михайлович махнул у себя перед лицом ладонями, сверху вниз, безнадежно. — Горько, что дураки! Но война уму скорее учит, чем государевы указы.
И снова махнул руками, теперь уже Савве, чтоб шел к делам своим.
На войне то туча, то солнышко.
Воеводы не дали царю загоревать надолго. Прислал вести Василий Петрович Шереметев. Взял два города. Друю — гнездо Сапеги, разорителя Московского царства в Смуту, и Диену, где русских воинов изумили огромные валуны с надписями: «Господи, помози рабу своему Борису». Решили, что писано это при святом Борисе, брате святого Глеба. Но то была молитва полоцкого князя, жившего лет на сто позже мучеников.
Была и Орша взята. Радзивилл, имея перед собой превосходящие силы всех трех русских полков: Большого, Передового и Сторожевого, оставил город без кровопролития.
Еще через неделю боярин Василий Петрович Шереметев занял Глубокое, истинным хозяином которого был католический монастырь кармелитов.
Города прибывали, но Смоленск стоял. О том, чтобы ждать, когда сами сдадутся, Алексей Михайлович, помня судьбу Шеина, даже разговоров не терпел.
Однако ж и не торопил воевод попусту. На то они и воеводы, чтоб города воевать.
Наконец изготовились к большому приступу.
12Приснилось Савве. Подошел он к избе, где их ночью люди Радзивилла резали, подошел, а зайти боязно. Но и не зайти нельзя… Засело в голову, что среди мертвых Ваньки Мерина не было… В тот красный да черный день мало что соображал, потом уж вспомнил про Ваньку…
Постоял за дверью, насмелился и — нырь головой вовнутрь, чтоб глянуть и — назад. А его словно бы ждали. Ванька Мерин ждал. Скалит, конь, лошадиные свои зубищи и всем телом давит на дверь. Прихватил голову! Так прихватил, что вот-вот череп треснет. Может, и треснул бы, да слышит Савва сквозь сон — толкают.
— Вставай! Уже пошли!
Проснулся, все вспомнил, спросил:
— Изготовились?
— Изготовились.
— С Богом!
Деревянная башня, с которой стрельцы будут прыгать на смоленскую стену, двинулась во тьму, где пущей тьмою, как брешь, зияла стена города-крепости.
Савву била дрожь, то выходил из него зябкий, под открытым небом, сон.
О приступе сказали поздно вечером. Савва приготовил оружие, надел доспехи, ждал приказа с нетерпением, пылая местью за товарищей своих, и — заснул.