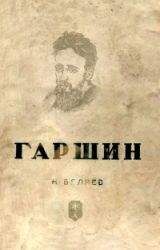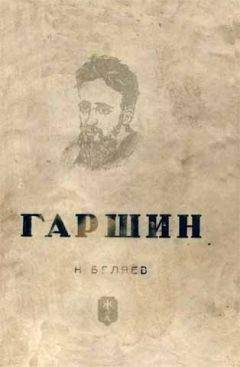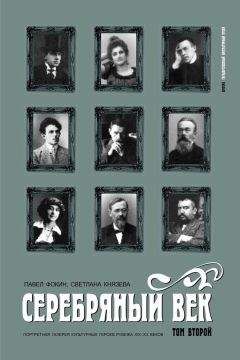Павел Фокин - Серебряный век. Портретная галерея культурных героев рубежа XIX–XX веков. Том 3. С-Я
…Надо сказать, что талант Чехова засверкал высоко над всеми актерскими удачами и с первого же представления стал центром победы и внимания прессы. И так уже повелось: одобрение, поощрение, наконец, восхищение вызывали многие, а Чехов сотрясал, смещал понятия о границах актерских возможностей. Да правду сказать, единственный он был среди нас, не нашелся другой такой и вообще никогда больше. Только как рассказать об этом странном человеке и артисте, так трудно поддающемся моему анализу? Буду писать о нем, как запомнила.
Чехов был реальной фантастикой, если такая может быть. Но если и не может – он все равно был ею. Ни в какие термины, ни в какие привычные понятия он не укладывался. Его дар и страсть к импровизации иногда выливались в чистое озорство, но сколько пищи они давали фантазии партнера. Перед выходом он не застывал в сосредоточенности, – наоборот, балагурил, шалил. На сцену выбегал и в роль вскакивал на ходу, но как глубоки, истинны, какой-то высшей правдой были все его образы. Он любил преувеличенный грим, смелую до дерзости сценическую повадку, но никогда не играл „извне“ – всегда „изнутри“. Его искусство, даже когда он позволял себе экстравагантность, было реалистически мощным. Он жил на сцене словно невзначай, летал, будто Меркурий одолжил ему крылышки, смеялся над собой, смешил партнера, а в результате возникало высокое творчество, исторгавшее из зрительских сердец все, что он хотел, – гомерический смех, исступленную боль, несдерживаемые слезы. И тут же мог весело подмигнуть кому-нибудь из актеров, только что плакавших вместе со всем залом. Он один так умел, он один так смел, ему одному это было дозволено. Есть такая картинка: Гаррик-трагик задумчиво сидит у стола, а в щель приоткрытой двери весело посматривает на себя самого Гаррик-комик. Вот такая раздвоенность всегда отмечала на сцене Мишу Чехова» (С. Гиацинтова. С памятью наедине).
«После Шаляпина не было в России никогда еще столь любимого, столь почитаемого художника сцены, как Чехов. Для самых разных слоев русского народа он был, казалось, источником духовного утешения. Я не могла решиться просить позировать мне такого прославленного молодого артиста, поэтому кто-то взял на себя роль посредника. Когда я пришла к нему, опоздав по недоразумению, он сам открыл мне дверь, среднего роста, самой обычной наружности: „Я уже боялся, что Вы не придете! Я уже два часа стою на балконе и жду Вас“, – так приветствовал он меня. Я сразу же принялась за работу, так как его время было ограниченно. …Во время сеанса был сварен очень крепкий кофе, что по тем временам было небывалой роскошью в России, и мне пришлось иметь дело не только с интересным лицом моей модели, но и с самыми глубокими вопросами, какие когда-либо были заданы мне. В этом нервном, оживленном юмором лице обращал на себя внимание большой лоб прекрасной формы, другие черты, мягкие и подвижные, позволяли предположить: это лицо способно безгранично преображаться. Вопросы его не были абстрактными, они были продиктованы самыми глубокими переживаниями человеческой души, познавшей также ад. Каждое его слово было будто вновь образовано, каждая фраза построена своеобразно. Отвечая на эти вопросы, я заново смогла пережить все величие того, что передавала ему. Сила, высочайшая энергия – такова, очевидно, была суть этого человека. Он не упрощал проблему и не отступал перед ней. И позже я могла наблюдать, как основательно он подходил к вопросу, как он мог работать над ним.
Когда он упоминал кого-нибудь из наших общих знакомых, ему достаточно было прищура глаз, движения губ, и перед вами вставал этот человек во всем величии его истинной сути и в то же время со всеми слабостями его временного бытия. Такое изображение не судило человека и не идеализировало его; истинная его суть была показана вам с любовью и юмором. Такой взгляд на человека казался мне истинно христианским.
…В тот день Чехов проводил меня домой, чтобы увидеть только что законченную мной картину. Это было „Рождение Венеры“, созданное вопреки всем моим лишениям. „Это, – сказал он, – непрерывный процесс возникновения, мощное движение в покое – как это возможно?“ И внезапно он начал смеяться и смеялся, и смеялся. Я удивленно смотрела на него, наконец он овладел собой. „Не сердитесь на меня, со мной это бывает, когда я чем-нибудь взволнован. У меня был такой приступ смеха, когда я навестил старца Нектария в Оптиной пустыни. Я начал смеяться и не мог остановиться. Тогда засмеялся он. Мы стояли друг перед другом и смеялись, и наконец он сказал мне: „Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось вашим мудрецам“. И когда я первый раз был приглашен к Федору Шаляпину, на меня напал такой же приступ смеха. Это ужасно мучительно“.
На другой вечер он выступал в последний раз перед отъездом за границу в драме поэтессы Арманд „Архангел Михаил“ [ошибка мемуариста: авторство принадлежит Н. Н. Бромлей. – Сост.]. Он играл главную роль – тирана и злодея, против которого готовит восстание измученный народ. Придя после первого акта за кулисы и разговаривая с Чеховым, я никак не могла, как ни старалась, узнать его в гриме. Это лицо было средоточием зла. „Я не могу больше играть это, – сказал он, – я чувствую, что сам насаждаю что-то плохое в мире и заболеваю от этого“.
Все его величие открылось только в следующем акте, где он присутствовал молча, не произнося ни слова. Несмотря на молчание, он всегда оставался в центре внимания, приковывая к себе зрителей силой, исходящей от него.
Позже, уже после моего отъезда из Москвы, когда Чехов играл своего Гамлета, мне рассказывали, что, несмотря на трагичность, он под конец все превращал в свет. Духовный свет пронизывал тьму и озарял людей, и несметные толпы, благодарные ему за красоту, которую он им дарил, бежали за его санями, провожая его домой. Он получал кипы благодарственных писем от людей различных сословий. Эти люди интересовались его взглядами: „Во что Вы верите, если можете так играть?“» (М. Сабашникова. Зеленая змея).
«Как можно было предположить, встречая в приарбатских переулках Москвы этого маленького, небрежно одетого, ничем не приметного человека, с его глухим, хриплым голосом, что это – величайший актер? А Михаил Чехов был величайшим актером – он был величайшим актером в образах, которые вроде и не давали такой возможности. Мы привыкли, что к властителям дум принадлежали исполнители Лира, Отелло, Чацкого, Незнамова. Чехов играл рольки, какие-то эпизодики. А в „Празднике мира“ даже старик Фрибэ, вечно бормочущий, преданный как собака, стал явлением необыкновенным. В „Гибели «Надежды»“ Чехов существовал Кобусом, чудаком с абсолютно лысым, проломленным черепом и заплетающейся речью. Разные характеры, разные жизненные пласты, разные мировоззрения» (П. Марков. Книга воспоминаний).