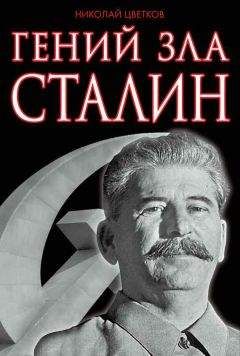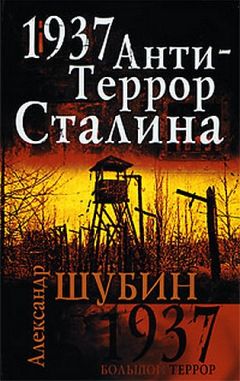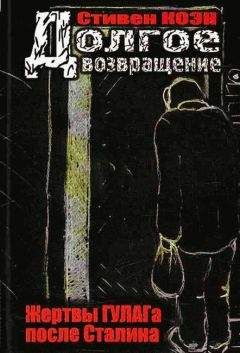Альберт Шпеер - Шпандау: Тайный дневник
18 марта 1956 года. Сегодня мы развели в саду три костра и жгли листья. Гесс поддерживал огонь, но большую часть времени просто стоял, глядя на языки пламени. В пятидесяти шагах от него Ширах ворошил дрова в другом костре. Я тоже жгу листья. Я смотрел на огонь и внезапно понял, что уже не знаю, нужна ли мне свобода.
28 марта 1956 года. Фомин — единственный среди вновь прибывших русских, кто настаивает, чтобы к нему относились как к влиятельному человеку. У нас часто создается впечатление, что он приходит в тюремный корпус или в сад без всякого повода — исключительно ради ощущения власти. Сегодня в саду я поздоровался с ним, приложив руку к козырьку лыжной шапочки.
— Номер пять, вы неправильно отдали мне честь.
Я с удивлением посмотрел на него и отдал честь чуть официальнее.
— Нет, — сказал Фомин, — не так. Вернитесь назад, а потом подойдите ко мне.
Я выполнил его требование. Когда я снова подошел к нему и поднял руку в военном приветствии, Фомин сдвинул свою шапку на затылок.
— Он не знает! Номер пять, почему неправильно отдаете честь? Снять шапку. Надеть. Еще раз!
В моем описании эта ситуация кажется немного комичной, как будто я сохранил некоторую долю ироничного превосходства. Это не так. К унижениям невозможно привыкнуть.
5 мая 1956 года. Сегодня, когда я полол сорняки на цветочной клумбе, дружелюбный Боков сказал:
— Что, всегда работа и работа? Почему работа? Теперь надо десять минут работа, пятьдесят минут отдых.
Он добродушно рассмеялся:
— Так работают коммунисты. Коммунисты работают лучше, чем немцы.
Под влиянием благожелательного отношения некоторых русских Функ недавно обнаружил у себя бабушку-славянку. Чуть позже появился русский двоюродный прапрадедушка; он с возрастающей наглостью постепенно перемещает свое генеалогическое древо на Восток. Ширах язвительно заметил:
— Наверное, ваша семья оказалась в Германии по чистой случайности.
Но Функ остался верен своему жизнерадостному цинизму. Он с улыбкой хлопнул себя по колену карманным русским словарем и заявил:
— А теперь займусь изучением родного языка.
12 мая 1956 года. Мои ореховые деревья выросли под два метра — выше меня. Ровно неделю назад твердая зимняя скорлупа треснула, и показался цветок. Еще вчера нижняя часть его трехъярусной конструкции по форме напоминала щипцы для сахара; верхушка была похожа на египетскую столицу. Теперь же, как хорошо организованное здание, обнаруживающее дополнительную гармонию, бутон выпустил шестнадцать ореховых листочков, каждый из которых делится на семь отдельных долей. Сто двенадцать частей. Листья вяло повисают, словно устав от быстрого роста.
И без виктории амазонской можно обмирать от восхищения.
12 июля 1956 года. Через Хильду получил копию письма Джона Макклоя моей жене от 21 мая. Он обещает связаться с Государственным департаментом и пишет дальше: «Я твердо убежден, что вашего мужа следует выпустить на свободу, и с радостью сделаю все возможное, чтобы ускорить его освобождение».
14 июня 1956 года. Наш вестибюль перекрашивают, на этот раз этим занимаются работники тюрьмы. Мы должны лишь мыть полы. Под руководством гросс-адмирала мы используем упрощенный метод. С криком «Драить палубы!» мы выплескиваем воду из ведер на пол, потом швабрами сгоняем ее в холодный воздуховод нашей новой воздушной системы отопления. Скинув кители, нам помогали Пиз и Боков, как вдруг, словно из-под земли, позади них вырос полковник Катхилл. Охранники поспешно натянули кители.
— Кому пришла в голову эта идея? — сурово спросил Катхилл.
Все молчали.
— Она стечет вниз и наружу, — попытался его успокоить я. — Система не водонепроницаемая.
— Вы же не станете говорить мне, что она не водонепроницаемая, — рявкнул на меня Катхилл, — если она воздухонепроницаемая?
Ни один заключенный не осмелится противоречить такой логике, тем более подкрепленной высшей властью.
15 июня 1956 года. Мое нежелание вести этот дневник становится все сильнее. Лишь изредка я беру в руки карандаш и бумагу так, будто выполняю тягостную обязанность. Мне в самом деле больше нечего сообщить на волю, а теперь, когда я дописал мемуары, с прошлым тоже покончено. Книги я теперь читаю, лишь бы провести время. Я давно забыл о своих планах написать большую книгу о назначении окна в здании или о недостроенных зданиях на картинах Джотто. Я забросил идею изучения иностранных языков, больше не слежу за последними техническими разработками в архитектуре. Что я написал за последние несколько месяцев? Если не ошибаюсь, помимо эпилога к книге, одни лишь глупые истории: эпизод с бабушкой Функа, досада на охранников, желудочные колики Гесса. Я страдаю меньше или больше?
Если так пойдет и дальше, боюсь, я обречен. Я могу превратиться в настоящего каторжника. Но хотя я это понимаю, я слишком устал, слишком подавлен, чтобы принимать решения. Через три месяца нас покинет Дёниц. У нас было немало противоречий и конфликтов, но даже они помогали мне выжить. С октября я останусь один с Гессом, Функом и Ширахом. Что за мысль! Если я хочу продержаться, к тому времени я должен начать все заново.
15 июля 1956 года. Ничего. Четыре недели, ничего.
17 июля 1956 года. Сегодня Гесс сидел на стуле под ореховым деревом, согнувшись пополам, и жалобно стонал.
Ему явно опять стало хуже. С декабря на двери его камеры висит извещение, подписанное американским врачом: «№ 7 должен каждый день работать в саду не менее получаса под присмотром охранников». Это распоряжение в течение следующих трех месяцев завизировали британский, французский и русский врачи. С тех пор Гесса дважды наказывали, «чтобы утихомирить», как однажды заметил Катхилл. Сегодня Летхэм тоже приказал Гессу немедленно идти на работу, иначе его отправят в карцер. Ему понадобилось пять минут, чтобы пройти сто метров до грядки с сахарной кукурузой. Скрючившись и отдыхая после каждого второго взмаха мотыгой, он со стонами и жалобами рыхлил землю, подолгу стоял, опираясь на мотыгу, и безостановочно причитал. Через десять минут он тяжело сел на землю, подтянул колени и опустил на них голову.
Подошел охранник.
— Вы должны работать. Встаньте!
Гесс, хныкая, покачал головой.
— У меня сердечный приступ. Донесите на меня, накажите меня, убейте, если хотите.
Три охранника стояли рядом с равнодушными лицами. Мы держались в стороне. Мы давно привыкли к подобным сценам и не обращали на них внимания. Прошло пятнадцать минут, прежде чем Гесс уступил требованиям охранников. Он тяжело поднялся и с перекошенным лицом снова принялся за работу. Отработав положенные полчаса, он, шатаясь, подошел к стулу, рухнул на него и снова уронил голову на колени. По его просьбе я принес ему куртку.