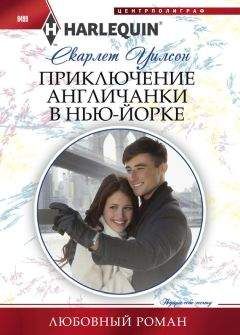Ариадна Эфрон - О Марине Цветаевой. Воспоминания дочери
Все же остальное без перемен. Лед идет, летят гуси и утки и еще какая-то мелочь, вроде снегирей. Эти малыши над водой летают низко, и отражение — как будто стайки рыбок, и я мгновенно представляю себе мир вверх тормашками: Енисей, отражающийся в небе, и рыб, отражающихся птицами.
Видимо, впадаю в детство.
Весна серая, пасмурная, очень холодная. Такое и лето пророчат. И в самом деле, зачем понадобилось Ермаку ее открывать?
Мне сказали, что в четвертом номере «Знамени» что-то твое напечатано,[152] но в библиотеке невозможно добиться, все время журнал на руках.
Пыталась прочесть «Бурю» Эренбурга, но никак не смогла. Язык у него какой-то переводной, не русский, и безвкусица тоже какая-то переводная («Старик Дезирэ признавал только две вещи — коммунистическую партию и хорошее вино» — «моя жена на зимнем спорте» и т. д.).
Масса раздробленных эпизодов — похоже на немое кино с громкими комментариями. Прочла с удовольствием «Дипломата» Олдриджа. Читал ли ты? По-моему, хорошо.
Родной мой, целую тебя и люблю. Напиши мне несколько словечек.
Твоя Аля.
Мне даже и не тоскливо, сама не знаю, чем я перенасыщена и что во мне выкристаллизировалось. Я, наверное, просто превращаюсь в соляной столп на полпути между Содомом с Гоморрой и Иерусалимом.[153] Пиши столпу, он ведь все же хороший человек!
<ПАСТЕРНАКУ>; 22 июля 1954
Дорогой друг Борис! Большое спасибо тебе за присланное и за письмо. Я знаю, насколько трудно было осуществить и то, и другое — особенно в такую жару. Да и вообще. Не смогла написать тебе раньше, т. к. меня «угнали» в соседний колхоз на заготовку силоса и я оттуда вернулась еле живая от усталости и новых впечатлений.
Вот уж действительно край света и почти что его конец. Избы завалились, обвалились, провалились, но все еще держатся, и в них все еще живут — а самое страшное это то, что на них еще сохранились всякие дореволюционные наличники, ставни, петушки и прочие отсталые украшения. И всюду следы чего-то, как после землетрясения — вот здесь была церковь, но ее разобрали, а тут — пекарня, но она сгорела, и т. д.
Именно там до революции находился Туруханск — место ссылки, а здесь, где мы сейчас живем, было село Монастырское. Деревня (по-здешнему станок) стоит не на Енисее, а на маленьком его притоке, Турухане, и жители жалуются, что скучно живется — даже пароходов не видать. В этом году колхоз впервые организовал детские ясли — они находятся в том же помещении, где колхозная контора, красный уголок и заезжая. Заведующая печет на железной печке оладьи, на помосте для сцены сидят, как истуканы, две няньки-девчонки в красных платьях и держат на коленях по грудному младенцу. Младенцы — калмыки, и тоже в красных платьях, и тоже как истуканы. Остальные дети (все, как один, без штанов) с увлечением ползают по грязному полу и отбирают друг у друга оладьи и единственную игрушку — поломанный фуганок. В одном углу играют на гармошке, в другом — огромная рыжая немка ругается с колхозным счетоводом, тихим грузином, который в прошлом году надеялся на то, что в юные годы дружил с Лаврентием, а в этом — не знает, на что и уповать. Причем все эти подробности можно разглядеть только через сетку накомарника, т. к. и небо, и земля, и избы, и ясли, и дети, и оладьи, и счетовод, и его мечты, и вообще все на свете скрыто тучами комаров. Да, товарищи…
После долгих хлопот и ожиданий я, наконец, добралась до «Знамени» с твоими стихами, очень обрадовалась им и тебе. Дорогой друг мой, если бы ты знал, как изболелось мое сердце по твоей судьбе — и как я горда ею! По-матерински я вечно «молюсь о чаше» и вместе с тем — прости и пойми меня! горжусь и радуюсь тому, что она, предназначенная величайшим и достойнейшим, не минула тебя. Ты сам это знаешь, и в конце концов велика ли беда говорить с потомками, перешагнув через современников? И велика ли беда в том, что, пока история движется спиралеобразно, лучшие идут по прямой?
У меня все по-старому. Устала я донельзя. Говорят, что есть какое-то постановление от 31 мая о снятии ссылки со всех нас, но всякое счастье хорошо вовремя — боюсь, что у меня нет сил опять все начинать сначала — куда-то ехать, где-то искать работу в таком возрасте, когда у каждого нормального человека уже есть квартира, дача, прислуга и, за неимением детей, хотя бы внуки. А я, бедная, все только «начинаю жить» и, как Агасфер, кочую от окраины до окраины.
Целую тебя, мой родной. Напиши мне, когда это не будет трудно.
Твоя Аля.
<ПАСТЕРНАКУ>; 20 августа 1954
Дорогой друг Борис! Во первых строках моего зеленого письма сообщаю, что мы получили официальное сообщение о том, что реприманд с нас снят и что мы получим в течение сентября паспорта (такие, какие у нас были до поездки,[154] т. е. на тройку с минусами, но все же и за то спасибо). И вот мы думали-думали с Адой (с которой вместе приехали из Рязани и вместе живем все эти годы) и решили эту зиму, до следующей навигации, зимовать здесь.
Ехать нам фактически некуда, у нас, кроме Москвы, нигде никого, и ехать куда-то наобум, думается, просто немыслимо. М. б., бог даст, за зиму дождемся реабилитации, тогда все значительно упростится, а если нет, то постараемся разузнать насчет возможной работы для Ады и для меня (она — преподаватель вуза — английский язык), я — сама не знаю. За зиму постараемся подкопить денег на выезд, на продажу нашей хатки надежда невелика, уезжают очень многие, продают все — все, а покупать некому. Как ты думаешь? Одобряешь ли такое решение? Если не был бы такой безумный зимний тариф у самолетов, я непременно прилетела бы в отпуск в Москву зимой — это разрешается, но на такую partie de plaisir[155] нужно не меньше двух тысяч, которые при большом желании можно было бы собрать, но тогда опять летом не выберешься! Очень уж хочется поскорее со всеми вами увидеться, тут мне дорог каждый день за все эти годы.
Вторая новость — у меня обнаружили tbc, к счастью, не в открытой форме. Тут только я и поняла, почему я весь последний год так плохо себя чувствовала, вечно была слабой и усталой. Ездила на покос, видимо, переутомилась, и сейчас же получилась вспышка, долго пролежала с высокой температурой, теперь она понизилась, но в норму еще не входит. Не работаю второй месяц. Здесь, на Севере, есть всевозможные, в других местах трудно находимые, лекарства и препараты, глотаю всякую горечь, в которую не верю (по старинке верю в овсянку, масло и в «как господь»), и дважды в сутки — стрептомицин. Уверена вместе с царем Соломоном, что «и это пройдет», ибо из всех моих качеств самые явные — это верблюжья выносливость и человеческое терпение. (Об остальных качествах мама говорила: «Мудра, как агнец, и кротка, как змий».)