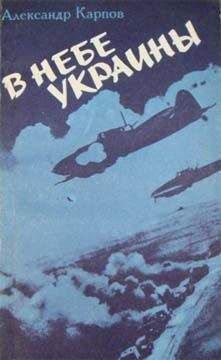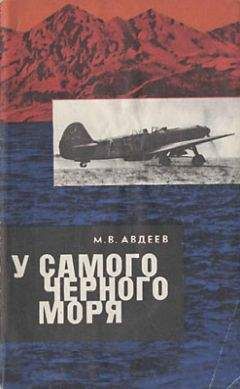Алан Кубатиев - Джойс
Бадген показал ему скульптуру Зутера-старшего, для которой он позировал. Огромное изваяние на Ураниабрюке, с длинной бородой и молотом, изображало воплощение труда. Ирония была в том, что Фрэнк мог служить воплощением чего угодно, только не трудолюбия. Джойс часто говорил друзьям, особенно в его присутствии: «Пойдем полюбуемся на Фрэнка» — и порой исполнял перед ним танец языческого почтения.
Ритуальному осквернению часто подвергалось ненавистное консульство. После закрытия ресторанов Бадген часто приглашал Джойса и Зутера в офис коммерческого отдела, где они рассаживались на ковре и читали стихи. Джойс — Верлена, «La lune blanche»[106] и «Il pleure dans mon cœur»[107], Пауль — «Les roses étient toutes rouges»[108], которые Джойс считал совершенством, хотя и спрашивал с типично джойсовским педантизмом, в котором часу дня розы слишком алы, а хмели слишком черны, причем одновременно. Немецкоязычная поэзия не слишком его интересовала, кроме разве что одного стихотворения Феликса Берана «Жалоба женщин» — «Und nun ist kommen der Krieg der Krieg…»
И вот идет война война
И вот идет война война
И вот идет война Война
И все вы солдаты
И все вы солдаты
И все вы солдаты
Солдаты
Солдаты должны умирать
Солдаты должны умирать
Солдаты должны умирать
Умирать должны они
Кто же будет целовать
Кто же будет целовать
Кто же будет целовать
Эту белую плоть мою
Слово «плоть» (Fleisch), вспоминал Бадген, страшно его возбуждало — это звук, сам по себе создававший ощущение целостного, плотного тела… Он говорил о пластичном односложном слове, как скульптор о качестве камня.
Ему доставляло удовольствие развенчивать любые проявления романтизма; когда при нем говорили, скажем, о сердечной привязанности, он мог съязвить: «Привязанность коренится значительно ниже…» Когда вечеринка разогревалась, Бадген мог припомнить матросское прошлое и спеть что-ни-будь. Джойс был в восторге от песенки про «Веселого лудильщика», который, оставаясь без работы, «продавал свой мясной топорик»… А потом отправился в Каслпул с паяльником и ножовкой и прочим, по дороге повстречал веселую пожилую даму, спросившую, не поработает ли он на ней рашпилем. Зутеру казалось, что Джойс смаковал непристойности, словно конфеты, но при этом сурово утверждал, что такие песни могут послужить основой для первичного сексуального просвещения…
Пиком веселья стал «индийский танец живота», исполненный Бадгеном на сейфе, которому вторил Джойс, не рискнувший уйти с ковра. Никто не волновался, ждут ли его дома. Утром на службе Фрэнк ожидал разноса, но, к его удивлению, никаких следов загула не осталось — привратник добросердечно прибрал за ними. Однако большие ножницы для вырезок из газет исчезли бесследно. Джойс просто сунул их в карман и унес домой. Что он готовился ими резать, осталось для истории неизвестным. Консульство тоже не хватилось имущества, пока Джорджо не принес их и не вернул Британской империи.
Эскапады трех друзей участились, и Нора опять принялась скандалить, утверждая, что они спаивают Джойса. Бадген, очень привязавшийся и к ней, пригласил Нору обсудить вопрос вместе. С видом самой королевы Виктории она прошествовала в кафе, где они собрались, и принялась их отчитывать. Пока они оправдывались, вошла проститутка, что разозлило Нору еще больше. Тем не менее трем искусным полемистам, среди которых были пропагандист и литератор, удалось уговорить ее остаться. Вечер прошел так, что после этого она стала гораздо благосклоннее к Фрэнку и Паулю. Но не к Джойсу. Однажды, в отчаянии от его непрекращающегося пьянства, она сообщила, что изорвала его рукопись. Протрезвел Джойс мгновенно. Правда, пока не убедился, что рукопись цела. Бадген и Зутер-младший видели, что Нора обращается с мужем, словно с ребенком, играющим в недозволенную игру. Когда однажды они пришли к нему, Нора заявила им, что ее муж пишет книгу, и чтобы это понял даже Зутер с его слабым английским, добавила, что «das Buch ist ein Schwein»[109] — ее немецкий был ничем не лучше. Терпеливо улыбавшийся Джойс показал им «Перл роман», слезливый журнальчик из станционных киосков, и сказал: «Моя жена читает вот это…»
Еще раньше он говорил Бадгену:
— Приходили гости, и зашел разговор об ирландском уме и юморе. И тогда моя жена сказала: «Какой еще ирландский ум и юмор? У нас есть дома хоть одна книжка с ними? Я бы прочла пару-другую страниц».
Джойса всегда возмущало ее полное равнодушие к тому, что он пишет. И тому же Бадгену он описал это так:
— Ведь я знаю, что я личность. Я обладаю влиянием на людей, находящихся рядом, знающих меня, на моих друзей. Но личность моей жены — полное отрицание любого моего влияния.
Возможно, именно по этой самой причине Нора полностью устраивала Джойса.
Неумеренность его она терпела и срывалась лишь тогда, когда его слабости принимали угрожавшие ему самому размеры. Детям и ей Джойс был предан полностью. Особенно он любил Лючию и баловал ее до полной испорченности. Нора обращалась с ней куда суровее, Джорджо и Лючии перепадало шлепков и подзатыльников, хотя никогда без причины. Джойс детей не наказывал — порки времен Клонгоувза оказались слишком сильным впечатлением.
— Детей воспитывают любовью, а не наказаниями, — говорил он.
Сын становился высоким и симпатичным подростком, побеждал в плавании и забегах на две мили и обнаруживал неплохие вокальные данные. Джойс, приглашая гостей, неизменно говорил: «Приходите пораньше, услышите, как Джорджо поет». Как и отец, он любил Верди, разучил арии из «Трубадура» и «Риголетто», но читать — читать он не любил. Однажды Джойс спросил Сайкса:
— Что мой сын делал, когда вы вошли?
— Читал, — ответил Сайкс.
— Мой сын — и с книгой?! — изумился Джойс.
Одноклассники с ним отлично ладили. Один из них, впоследствии знаменитый летчик Уолтер Акерман, прозвал его «Англичанин», но Джорджо гордо утверждал, что он — ирландец. Когда он сказал, что его отец писатель, его спросили, что за книгу он написал, и Джорджо ответил, что он пишет ее уже пять лет и будет писать еще десять или около того. Тогда его спросили, чем отец зарабатывает на жизнь. Джорджо ответил, что, когда деньги кончаются, отец пишет в Англию и получает пару сотен фунтов от какого-нибудь лорда.
О чем бы ни говорил Джойс с друзьями, он непременно сворачивал к книге, которую пишет. Нора, видя, как они слушают его, решила, что в его писанине все-таки что-то есть. Джойс беззастенчиво эксплуатировал внимание и интерес Бадгена: уже во вторую их встречу Джойс поведал ему, что пишет книгу, где в восемнадцать часов уместится вся жизнь современного человека. «Вы ведь много читаете, мистер Бадген, вспомните персонаж любого писателя, обладающий такой многосторонностью!» Кандидатура Христа не прошла. «Он был холостяк и никогда не жил с женщиной; а это одна из самых трудных вещей, выпадающих мужчине». Фауст не подошел тоже — «Он неполон как человек. Он вообще не человек. Старик это или юноша? Где его семья и дом? Никто не знает. Он неполон, потому что не бывает один. Вокруг него вечно вьется Мефистофель…»